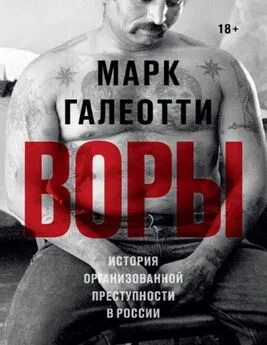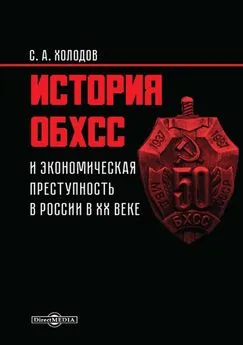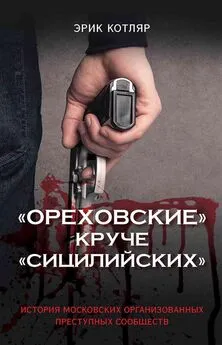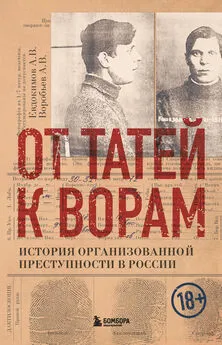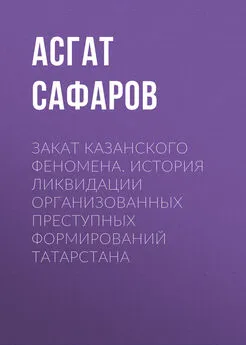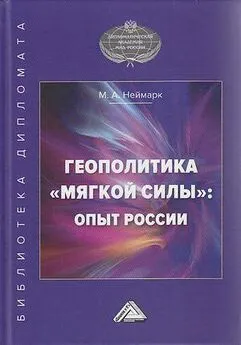Марк Галеотти - Воры. История организованной преступности в России
- Название:Воры. История организованной преступности в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Индивидуум
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-6042627-1-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Галеотти - Воры. История организованной преступности в России краткое содержание
Воры. История организованной преступности в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Этот язык раз за разом подчеркивал сознательные и последовательные попытки преступников отделиться от общества [221] Несколько хороших словарей тюремного и криминального жаргона можно найти в следующих книгах: Александр Сидоров, Словарь современного блатного и лагерного жаргона (Ростов-на-Дону: Гермес, 1992); Юрий Дубягин и А. Г. Бронников, Толковый словарь уголовных жаргонов (М.: Интер-ОМНИС, 1991). Особенно полезной для автора была книга Юрия Дубягина и Е. A. Теплицкого Краткий англо-русский словарь уголовного жаргона / Concise English-Russian and Russian-English Dictionary of the Underworld (М.: Терра, 1993).
. Обычных людей называли «фраерами» — словом, заимствованным из идиша и изначально обозначавшим простофиль или клиентов проститутки. Слово «люди» использовалось для описания «своих», то есть членов «воровского мира». Виктор Герман, американец, проведший 18 лет в ГУЛАГе, вспоминал историю, когда он настолько грамотно противостоял ворам, решившим на него «наехать», что «крестный отец» лагеря предположил, что он блатной, и принялся задавать ему вопросы: «Ты кто?.. Ты человек, ты урка? Ты один из нас?» [222] Victor Herman, Coming Out of the Ice: An Unexpected Life (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1979), стр. 193.
Иными словами, лишь «воры» считались настоящими людьми; остальные преступники — «мужики», или «жиганы» [223] Слово «жиганы» происходит от глагола «жигануть» (резко ударить). На каторге в царские времена этим словом называли самых жалких и обездоленных заключенных. Vlas Doroshevich, Russia’s Penal Colony in the Far East (London: Anthem Press, 2011), стр. 191–194; Andrew Gentes, Exile to Siberia, 1590–1822 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008), стр. 176.
, — не заслуживали уважения или внимания. Интересно отметить, что такое отношение отражалось и в лексиконе охранников, которые часто говорили зэкам, что те «не люди» [224] Caroline Humphrey, ‘Dangerous words: taboos, evasions, and silence in Soviet Russia’, Forum for Anthropology and Culture , no. 2 (2005), стр. 389.
.
У каждой профессии, законной или незаконной, имеется свой технический сленг — от разговорных выражений до терминов, связанных с конкретными занятиями. Однако феня не ограничивалась понятиями, имевшими непосредственное отношение к преступлениям и жизни преступного мира. В ней имелись замены и для вполне обычных слов: так, рот на фене назывался «варежкой».
Практическая ценность фени состояла в возможности вести разговор, который не могли понять посторонние. Некое подобие воровского жаргона встречалось уже в XVIII веке и было связано с именем Ваньки Каина. По легенде, однажды ему передали в тюрьму отмычки внутри краюхи хлеба вместе с поясняющей запиской, недоступной для понимания стражников [225] Serguei Cheloukhine, ‘The roots of Russian organized crime: from old-fashioned professionals to the organized criminal groups of today’, Crime, Law and Social Change 50, 4–5 (2008), стр. 356.
. Язык служил и защитной мерой, не позволявшей властям внедрить в ряды воров своих агентов. Он помогал и отпугивать чужаков: даже если те не понимали самих слов, они понимали, что символизирует этот язык. Но главная ценность фени состояла в том, что она демонстрировала преданность преступному, альтернативному миру, и те, кто надеялся сделать в нем карьеру, должны были изучать и использовать его язык. Все это объясняет, почему периодические попытки властей выжечь феню каленым железом оказывались безуспешными. Она представляла собой еще один способ, которым блатные могли отделиться от обычного люда. В 1934 году Сталин предупреждал, что люди, которые говорят на воровском жаргоне, перестают быть советскими гражданами [226] Цит. по Humphrey, ‘Dangerous words’, стр. 376–377.
. По всей видимости, он не понимал, что именно в этом и состояла их цель.
Один мир, один язык
Язык до Киева доведет.
Русская пословицаГомогенизация криминального языка символизирует однородность российского преступного мира. Сейчас этот язык известен как «феня». Он получил свое название в честь давнего жаргона торговцев и нищих, известных как офени, зародившегося не позднее конца XVIII века. В этом языке между слогами обычных слов вставлялись дополнительные слоги, обычно «фе» и «ня» [227] В 1839 году И. И. Срезневский выпустил значительный труд под названием Офенско-русский и русско-офенский словарь . М. Н. Приемышева, «И. И. Срезневский об офенском языке», Acta Linguistica Petropolitana 3, 3 (2007), стр. 335–361.
. Таким образом, слово «тюрьма» произносилось как «тюрьфеманя». К середине XIX века этим языком почти перестали пользоваться, однако его название сохранилось [228] Валерий Чалидзе, Уголовная Россия (Нью-Йорк: Хроника, 1977), стр. 57; Leonid Finkelstein, ‘The Russian lexicon, 2001’, Jamestown Foundation Prism 7, 3 (2001).
. При этом в период широкого распространения фени, с 1920-х по 1960-е годы, чаще использовалось выражение «блатная музыка» или более прозаичное «блатной язык». Другим языком, использовавшимся в прежние времена больше, чем сейчас, был язык визуальный, зашифрованный в сложных татуировках, которыми рецидивисты украшали свои тела. Хотя преступный жаргон как таковой не уникален — известно, что различные арго существовали в Европе еще в XIV веке [229] Например, германо-швейцарский Rotwelsch или язык французских бродяг и воров, упоминающийся в официальных записях парижской тюрьмы Шатле.
— в России он отличается и масштабностью охвата, и активностью использования. Еще в начале XX века русский язык, на котором говорили обычные люди, был достаточно фрагментирован и представлял собой набор бесчисленного множества местных диалектов. А устный и визуальный языки «воровского мира» уже были универсальны и распространены не только в «ямах» и трактирах, но, что более важно, в тюремной системе. Показательно, что на языке воров тюрьма называлась «академией» [230] Употребление слова в данном контексте началось (точнее, впервые было зафиксировано в милицейских протоколах) лишь в конце 1920-х годов.
.
Лишь в XIX веке этот воровской жаргон получил по-настоящему широкое распространение в преступном мире. Некоторые исследователи утверждают, что это произошло к 1850-м годам. В уникальном «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля, впервые опубликованном в 1863 году, упоминается ряд жаргонов, в том числе жаргон «мазуриков», криминальной субкультуры Санкт-Петербурга [231] James Davie, ‘Missing presumed dead? — the baikovyi iazyk of the St Petersburg mazuriki and other pre-Soviet argots’, Slavonica 4, 1 (1997).
. В то время это было достаточно фрагментированное арго или скорее набор связанных между собой, но не идентичных жаргонов. Жаргон никогда не служил заменой «нормального» русского языка: скорее он предлагал параллельный набор новых слов, придавал новые значения существующим, а фразы со вторым, переносным смыслом, которыми преступники перемежали свои разговоры, помогали им демонстрировать свою идентичность и верность воровскому миру.
Интервал:
Закладка: