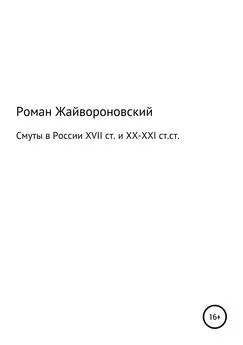Вячеслав Козляков - Смута в России. XVII век
- Название:Смута в России. XVII век
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Омега
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-465-01229-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Козляков - Смута в России. XVII век краткое содержание
Подробно передавая ход событий, всесторонне анализируя исторические источники, постоянно сверяясь с многочисленными документальными свидетельствами очевидцев и работами авторитетных историков, автор разворачивает перед читателем широкое историческое полотно Смуты, когда, стоя перед разверзшейся пропастью, русский народ сумел сплотиться в национальном единении и спасти свою Родину от погибели.
К работе приложен полный текст «Утвержденной грамоты» 1613 года об избрании на царство Михаила Федоровича Романова.
В оформлении обложки использованы картины М.И. Скотти «Минин и Пожарский» (1850) и В.М. Сибирского «Гражданин Минин и князь Пожарский» (1997).
Смута в России. XVII век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Между 21 и 25 февраля могли возникнуть еще другие разговоры об ограничительной записи, которую бояре хотели взять с молодого царя, по образцу царя Василия Шуйского. Этот бродячий сюжет об ограничении самодержавия Михаила Романова обычно с сочувствием обсуждается в либеральной историографии (и не только в ней, судя, по позиции В.О. Ключевского), но с негодованием отвергается монархистами. Основа споров лежит в каком-то неясном предании о выдаче «писма» царем Михаилом Федоровичем, зафиксированном подьячим Григорием Котошихиным во второй половине XVII века: «Как прежние цари после Ивана Васильевича обираны на царство; и на них были иманы писма, что им быть не жестоким и непалчивым, без суда и без вины никого не казнити ни за что, и мыслити о всяких делах з бояры и з думными людми сопча, а без ведомости их тайно и явно никаких дел не далати» [775]. Сложные обстоятельства появления записки беглого подьячего в Швеции, составлявшего своеобразный отчет для королевской канцелярии об образе и порядке управления Московского государства при царе Алексее Михайловиче, заставляют с настороженностью отнестись к этому известию. Григорий Котошихин передавал впечатление людей своей эпохи о давно миновавших временах. В таком же публицистическом контексте обвинений «сильным людям» находится известие о «роте» (присяге), которую выманили у молодого царя Михаила Романова в Псковской летописи. Существуют более поздние свидетельства Ф.И. Стралленберга и В.Н. Татищева об ограничительной записи Михаила Федоровича, но они явно вторичны и больше связаны с событиями времен Верховного тайного совета и подготовки «кондиций», разорванных императрицей Анной Иоанновной в 1730 году [776]. Даже копии текста этой записи не существует, как и нет свидетельств о том, что она выполнялась. Прав С.Ф. Платонов, после пересмотра всех источников, связанных с этой темой, заметивший, что «сама боярская дума в момент избрания Михаила, можно сказать не существовала и ограничивать в свою пользу никого не могла» [777]. Однако Л.М. Сухотин в своих заметках, адресованных «будущему исследователю избирательного собора 1613 года», оставлял возможность для продолжения полемики. Он предполагал посвятить специальную работу «деятельности московских правительств 121 года, так называемого земского, действовавшего накануне избрания царя, и царского, его сменившего». Выход в свет известной работы П.Г. Любомирова о нижегородском ополчении остановил его намерения и Л.М. Сухотин ограничился всего лишь несколькими наблюдениями (зато входящими в золотой фонд историографии этой темы). Л.М. Сухотин считал, что «подобная запись была желательна не только сходившим со сцены правителям, долго упорствовавшим против избрания Михаила, но и многим членам думы, и притом в своей среде весьма влиятельным, как князья Мстиславский, Голицын, И.С. Куракин, тоже бывшими противниками избрания Михаила» [778].
Присяга царю Михаилу Федоровичу началась с 25 февраля и с этого времени происходит смена власти. В города были направлены первые грамоты, сообщавшие об избрании Михаила Федоровича, а к ним прилагались крестоцеловальные записи. В текст присяги включили отказ от всех других возможных претендентов, обязывая всех служил «государю своему, и прямить и добра хотеть во всем безо всякие хитрости» [779]. Грамота московского земского собора рассылалась от имени Освященного собора во главе с митрополитом Кириллом, состоявшего из епархиальных и монастырских властей и «великих обителей честных монастырей старцев, которые собраны для царского обирания к Москве». Все остальные чины были лишь перечислены по порядку. И это в случайно. Строго говоря, в те дни только Освященный собор мог восприниматься как созванный с достаточно полным представительствам (за исключением митрополита Ефрема). Все другие депутаты, а также просто оказавшиеся в Москве люди, обращались именно к этому церковному собору, освящавшему выборы царя. Грамоты в города отправляли, обращаясь прежде всего тоже к местному освященному собору, а потом к воеводам, уездным дворянам и детям боярским, стрельцам, казакам, гостям, посадским и уездным «всяким людям великого Московского государства».
Из Москвы напоминали о «пресечении царского корени» и о временя, наступившем после сведения с престола царя Василия Шуйского: «по общему земскому греху, а по зависти дияволи, многие люди его государя возненавидели, и от него отстали; и учинилась в Московском государстве рознь». Далее, коротко напоминая о договоре с гетманом Жолкевским, об «очищении» Москвы от польских и литовских людей переходили с главному — царскому выбору. Здесь в грамотах могли быть нюансы, так как некоторые города, несмотря на все просьбы, так и не прислали своих представителей «для государского обиранья». Теперь им напоминали об этом, и сообщали повсюду о том, что «выборные люди» из Замосковных. Поморских л Украинных городов уже давно съехались и живут в Москве «долгое время». Общее мнение, сложившееся в это время, что «без государя Московское государство ничем не строитца, и воровскими заводы на многие части разделяетца, и воровство многое множитца». Описывая перечень кандидатур, обсуждавшихся на земском соборе (и мы со всего собору и всяких чинов выборные люди о государском обиранье многое время мыслили»), объясняли, почему отказались от «литовского л свинского кораля и их детей», писали о принятом решении «Маринки и сына ея на государство не хотети». Так, по принципу отрицания, родилось решение выбрать «государя из московских родов, кого Бог даст». По общему же мнению такой кандидатурой и был Михаил Федорович, избрание которого на русский престол состоялось 21 февраля. Новому царю целовали крест в том, чтобы ему «служите и прямите и с недруги его государьскими и с неприятели государства Московского с полскими и с литовскими и с неметцкими людми, и с татары, и с изменники, которые ему государю служите не учнут, битися до смерти». В конце грамоты об избрании Михаила Федоровича призывали петь многолетие и проводить «молебны з звоном» о здоровье нового царя и об успокоении в стране: «и християнское бы государство мирно и в тишине и во благоденьствии устроил».
В одной из грамот — на Двину сохранились рукоприкладства, позволяющие увидеть, кто тогда мог представительствовать от имени земского собора. Это были (по порядку) митрополит ростовский и ярославский Кирилл, архиепископ суздальский и тарусский Герасим, архиепископ рязанский Феодорит, епископ коломенский и каширский Иосиф, боярин князь Федор Иванович Мстиславский, боярин Федор Иванович Шереметев, боярин князь Иван Семенович Куракин и, на боярском месте, князь Дмитрий Михайлович Пожарский (подпись князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, как уже упоминалось, отсутствует). Дальше шли подписи окольничих князя Данила Ивановича Мезецкого, Никиты Васильевича Годунова, Федора Васильевича Головина, князя Ивана Никитича Меньшого-Одоевского, боярина Андрея Александровича Нагого и Леонтия Ладыженского. «И вместо выборных людей» подписались дьяки московских приказов Дорога Хвицкой, Семен Головин, Иван Ефанов и другие, в том числе служивший «при Литве» на новом Земском дворе Афанасий Царевский. Среди рукоприкладств подписи дворян Торжка, Рязани, Одоева, Усложны Железопольской и Мценска. Грамоту на Двину 25 февраля подписали также бывшие в Москве монастырские власти и посадские люди из Вологды, торопецкий стрелецкий сотник. О ком-то из них отмечено, что он «выборный человек», а о других этого не сказано. На соборные заседания в столице, видимо, могли сходиться люди, по случайному представительству от разных городов и уездов. Поэтому в грамоте говорилось об общей радости «выборных и не выборных людей» по случаю избрания в цари Михаила Романова [780].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: