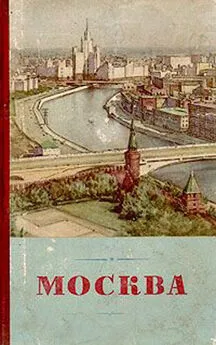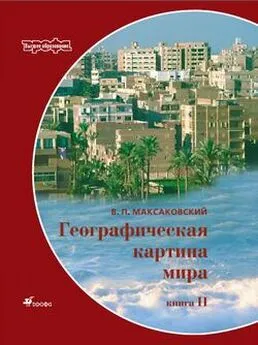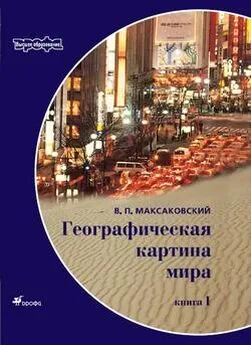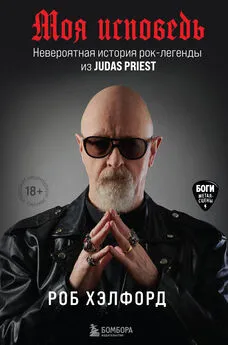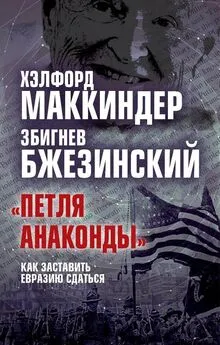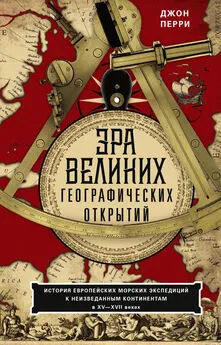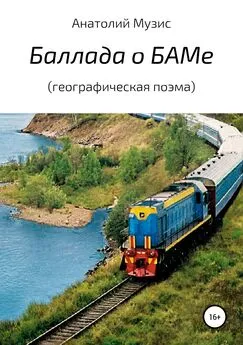Хэлфорд Маккиндер - Географическая ось истории
- Название:Географическая ось истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-135843-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хэлфорд Маккиндер - Географическая ось истории краткое содержание
В своем основном труде «Географическая ось истории» Маккиндер ввел понятие Хартленда, обозначив так центральную часть Евразии, вокруг которой расположены внутренняя дуга (Европа – Аравия – Индокитай) и периферийная дуга (Америка – Африка – Океания).
В вышедшей после Первой мировой войны работе «Демократические идеалы и реальность» ученый развил дальше свою теорию осевого региона, видоизменив в ней некоторые прежние положения.
В 1943 году выходит последний, третий труд Маккиндера – «Земной шар и достижение мира», где кардинально пересматривается будущее мировое устройство после окончания Второй мировой войны.
В своей работе Маккиндер вводит новую геополитическую ось – США, обосновывает идею геополитических блоков и предсказывает становление двуполярного мира, вращающегося вокруг двух противостоящих друг другу осей: Соединенных Штатов и Советского Союза (Хартленда).
Географическая ось истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Давайте теперь рассмотрим этот вопрос с обратной стороны, отталкиваясь от свободы людей. Чего хочет обычный человек? Милль утверждает [207] Имеется в виду Дж. С. Милль, британский философ и экономист, автор «Опытов о некоторых нерешенных вопросах политической экономии» (1844) и «Принципов политической экономии» (1848).
, что за потребностями в еде и крове идет потребность свободы, но современный демократ подчеркивает, что важна не просто свобода возможностей, а равенство этих возможностей. Речь о возможности осознать свои способности, возможности жить идеями и поступками, воплощая эти идеи; именно об этом мечтает – все чаще – здоровый человек. Что касается идей, они могут быть о любви и о благородном воспитании детей, о ремесле и совершенстве навыков, о религии и спасении души, о каких-то спортивных достижениях, о конституции и улучшении общества, о красоте и ее художественном выражении; но, так или иначе, человек желает жить разумной жизнью и, зачастую подспудно, мечтает о признании собственного человеческого достоинства.
Посредством всеобщего начального образования мы начали обучать искусству манипулирования идеями тех, кто в древнем обществе считался рабами. Совершенно не образованный человек мыслит предельно конкретно; поэтому великие религиозные учителя прошлого изъяснялись притчами. Необразованному человеку недоступны ни прелести, ни опасности идеализма. Несомненно, наши западные сообщества сегодня проходят опасную стадию развития. Полуобразованные люди чрезвычайно восприимчивы, а сегодняшний мир состоит преимущественно из полуобразованных людей. Они способны усваивать идеи, но у них нет привычки проверять эти идеи на обоснованность и здравость. Иными словами, большинство нынешних людей крайне подвержено «внушению»; это обстоятельство хорошо известно тем, кто участвует в выборах и редко взывает к голосу разума, общаясь с публикой. К слову, внушение – главный метод немецкой пропаганды.
Выражение «равенство возможностей» включает в себя два элемента. Во-первых, это контроль: учитывая человеческую природу, равенство без контроля невозможно; во-вторых, это свобода совершать поступки, а не просто думать, иначе говоря, возможность превращать слова в реальные дела. По замечанию мистера Бернарда Шоу, «кто умеет, делает; кто не умеет, учит» [208] См. «Максимы революционеров» в сборнике «Человек и сверхчеловек» (1903).
. Если истолковывать слова «умеет» и «не умеет» как метафору возможности и ее отсутствия, мы поймем, что это довольно циничное высказывание выражает житейскую истину. Те, кому выпадает возможность проверить свои идеи на практике, становятся ответственными мыслителями, а те, кто не получает такой возможности, могут какое-то время наслаждаться своими идеями безответственно, скажем так, теоретически. Позволю себе отметить, что именно так поступает значительная часть наших читающих газеты интеллектуалов, причем кое-кто из них это сознает и сожалеет о подобном.
В чем заключается проклятие нашей современной индустриальной жизни? Разумеется, в однообразии – однообразии труда и повседневных домашних и общественных дел. Недаром наши мужчины перед войной искали спасения в ставках на футбол. Большинство ответственных решений – удел немногих, и мы не видим этих немногих за работой, потому что они далеко от нас, где-то в крупных городских центрах.
Что в последние два-три поколения придавало такую силу национальному движению? Национальность практически не принималась во внимание в средние века и даже позже, ее придумало девятнадцатое столетие. Она возникла благодаря тому, что современные государства увеличились в размерах и приобрели более широкие функции управления. Националистические движения проистекают из беспокойства талантливых молодых людей, которые добиваются возможности жить идеями и быть среди тех, кто «умеет», благо им это позволено. В античности и Средневековье общество не обладало сколько-нибудь внятной сплоченностью, и в любом городке перед человеком открывалось обилие возможностей. Этот факт заставляет присмотреться к городской истории, но с восемнадцатого столетия все меняется, все становится банальным. Возьмем для примера историю любого из наших выдающихся городов и попробуем оценить, насколько справедливо это утверждение. Последние несколько поколений горожан показывают, что перед нами лишь статистика материального развития; в лучшем случае город каким-то образом в чем-то специализируется, но перестает быть целостным организмом. Все его институты второстепенны, поскольку лучшие люди уезжают, если только в этом городе нет какого-то учреждения или предприятия выше местного уровня, а такое учреждение или предприятие обычно разрушает, а не развивает местную жизнь.
Почему Афины и Флоренция сделались оплотами цивилизации и превратились в светочи человечества? По размеру это были небольшие города, если сравнивать их с современными, но в политическом и в экономическом смысле обладали суверенитетом. Люди, которые обменивались рукопожатиями на улицах этих городов и заключали браки с соседями, не просто соперничали друг с другом в конкретном ремесле или в конкретной области торговли; каждая важная сфера осознанной человеческой деятельности была представлена в этих городах узким кругом работников. Вообразим выбор, стоявший перед молодым и талантливым флорентийцем в его родном городе на благо последнего – он, напомню, не испытывал потребности перебираться в отдаленную столицу. Он мог стать градоначальником или верховным священником, или полководцем, ведущим городское ополчение в битву (сражение, конечно, имело локальный размах, но полностью раскрывало ратный талант такого человека); будь он художником, скульптором или архитектором, наш флорентиец все равно трудился бы в своем городе, и горожанам не приходилось обращаться к просьбами к каким-то заезжим великим творцам. Естественно, никто не призывает вернуться к институциям афинского или флорентийского порядка, но факт остается фактом: мы лишили местную жизнь большинства ее ценностей и интересов, старательно развивая общенациональную классовую организацию.
Насколько мы уверены, что требования о введении самоуправления (гомруля) в Ирландии и, в меньшей степени, в Шотландии, исходят не от возбужденных молодых людей, которые, сами того не до конца понимая, агитируют за равенство возможностей, а от убежденных противников союза со «злонамеренной» Англией? Богемцы добились немалого экономического процветания при австрийской тирании, но все же они продолжают отстаивать свою чешскую и словацкую национальность. Разве не ощущаем мы поиски той же житейской истины в недовольстве фабричных рабочих поведением руководителей профсоюзов, заседающих в Лондоне?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: