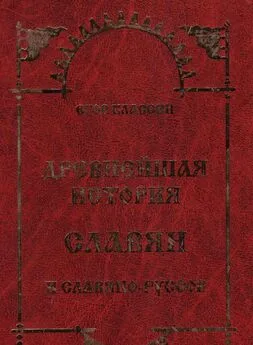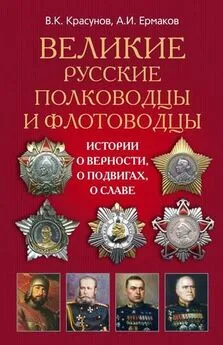Александр Майоров - Великая Хорватия. Этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона
- Название:Великая Хорватия. Этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Санкт-Петербургского университета
- Год:2006
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-288-03948-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Майоров - Великая Хорватия. Этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона краткое содержание
Великая Хорватия. Этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Повествуя о происхождении и древнейшей истории славянских племен, определяя границы исконно славянских земель и территорий, где впоследствии они расселились, Нестор обращался к давно прошедшему историческому периоду, отделенному от него самого многими столетиями и сообщал сведения о событиях, происходивших далеко за пределами Киева и Русской земли. Следовательно, составить свое повествование русский летописец мог только на основании данных авторитетных источников, содержавших интересовавшие его сведения. Таковыми источниками в Древней Руси были прежде всего византийские исторические сочинения и восходящие к ним ранние западно- и южнославянские произведения.
Различные сведения о славянах и отдельных славянских племенах содержатся в многочисленных исторических хрониках Византии, в том числе и тех, использование которых составителем Повести временных лет достоверно известно, — Георгия Амартола, Иоанна Малалы, Продолжателя Феофана и др. [74]Исследования начального русского летописания показывают, что при составлении историко-этнографического введения Повести были сведены чтения Хроники Георгия Амартола и западно- или южнославянских хроногрофов, так или иначе с ней связанных, — Болгарского Хронографа (однородного с Еллинским летописцем) или Хронографа по великому изложению. Византийское происхождение имеют, например, тексты, непосредственно предшествующие сообщению о расселении славян с Дуная и связанные с ним общей композицией. Рассказ о вавилонском столпотворении частично заимствован из Хроники Георгия Амартола, а сообщение о разделении на 72 языка потомков Ноя соответствует полному списку этих народов в русской Толковой палее, очевидно имевшей в данном случае общий источник с Повестью временных лет [75].
Общепризнанным считается компилятивный характер недатированного вступления к Повести, неоднократно отмечались не только его композиционная пестрота, но и несовместимость многих элементов [76]. Сообщение о расселении славян с Дуная большинство исследователей относит к так называемому Сказанию о славянской грамоте (Сказание о преложении книг на славянский язык) — еще одному предполагаемому источнику начальной части Повести временных лет [77]. Основной текст этого памятника помещен в ст. 6406 (898) г., но и в недатированной части имеются многочисленные заимствования из него.
Как видим, в работе над вводной частью летописи Нестор действовал методом компиляции, составляя свое полотно подобно мозаике из отдельных небольших фрагментов, извлеченных из разных источников в той мере, в какой это отвечало выполнению его общего авторского замысла. Интересующий нас текст, содержащий упоминание о белых хорватах, заимствован из западнославянского источника, который, в свою очередь, также не был однородным по составу. Исследователи видят в Сказании о преложении книг несколько различающихся по содержанию частей [78], усматривают следы великоморавского происхождения и последующей болгарской обработки памятника [79]и даже выделяют в нем особую Повесть о поселении славян на Дунае и нашествии угров, относящуюся к моравско-чешской традиции X в. [80]
Кроме того, в окончательной редакции Повести временных лет текст Сказания имеет еще одну особенность. На одном из этапов доработки в него вошли новые локальные дополнения, имеющие византийское происхождение. По выражению А. Г. Кузьмина, «Сказание и смежные с ним летописные тексты как бы прошиты заимствованиями из византийских хроник» [81].
Интересующее нас известие о расселении славян с Дуная как раз обнаруживает такой сложный характер. Оно состоит как бы из нескольких фрагментов, каждый из которых имеет самостоятельное значение. Об этом свидетельствует и недостаточная смысловая согласованность отдельных частей при сведении их в единое целое.
Упоминание о белых хорватах содержит фраза, замыкающая рассказ: «А вот еще те же славяне: белые хорваты и сербы и хорутане». Начинает же его летописец с объяснения, что, разойдясь с Дуная, славяне «прозвались именами своими от мест, на которых сели»; но, так и не доведя этой мысли до конца, ограничивается только одним примером: «…одни, придя, сели на реке именем Морава и прозвались морава». В дальнейшем летописец вернется еще к этой теме и проиллюстрирует свое наблюдение новыми примерами, касающимися названий восточных славян. Но пока он вынужден прерваться на полпути, поскольку имеющиеся у него разнородные данные не позволяли выстроить безупречную логическую последовательность.
О разнородности используемых летописцем источников, данные которых он пытался привести в соответствие, может свидетельствовать и тот факт, что в одном рассказе соединились сведения из истории разных славянских народов — западных и южных, причем сведения о последних (белых хорватах, сербах и хорутанах) логически отделены от первых и оформлены в виде особого дополнения.
Отмеченная особенность текста известия о расселении славян с Дуная давно привлекла внимание исследователей, видевших здесь следы работы нескольких авторов или редакторов, пользовавшихся разными источниками. Фраза «А вот еще те же славяне: белые хорваты и сербы и хорутане» справедливо считается позднейшей вставкой. Она, как и помещенное далее известие о поселении славян на Висле, образовавших ляшскую группу западнославянских племен, разрушает целостность первоначального текста о расселении славян в Подунавье и нашествии волохов.
Известия о белых хорватах, сербах, хорутанах и ляшских племенах идейно чужды рассказу о дунайских славянах, поскольку «не раскрываются в тексте, подобно мораванам, как иллюстрация новых племенных названий по занимаемым землям. "Ляхи", которые "сели на Висле", даже противоречат этому правилу, не став "вислянами". Эти славянские народы не связаны с контекстом рассказа, и территориально они находятся вне Подунавья. Поэтому данные записи можно рассматривать как более поздние интерполяции» [82].
Следует обратить внимание и на еще один важный факт, не получивший пока должной оценки. Из трех приведенных здесь южнославянских этнонимов два — «белые хорваты» и «хорутане» — уникальны для Повести временных лет и более нигде не встречаются (хотя собственно о хорватах, как и сербах, она говорит неоднократно) . Не знают подобных этнонимов (кроме упомянутого здесь случая) и другие русские летописи, как древние (Лаврентьевская, Ипатьевская, Новгородская Первая) , так и более поздние (Никоновская, Воскресенская и др.) .
Зато термин «хорутане», а точнее, его западноевропейский эквивалент «карантанцы», хорошо известен в европейской средневековой традиции. В трактате «Обращение баваров и карантанцев», написанном в Зальцбурге в 870 или 871 г., термин Carantani неоднократно и последовательно употребляется как этноним, обозначающий особый славянский этнос, заселявший пространство между Баварией и Нижней Паннонией [83].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: