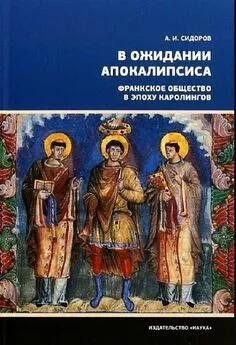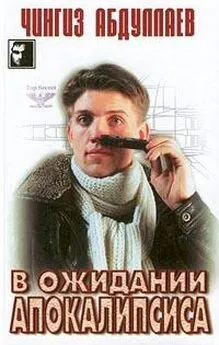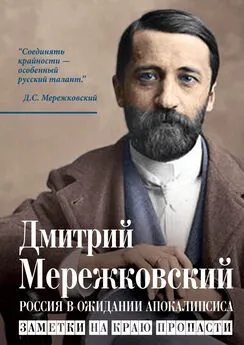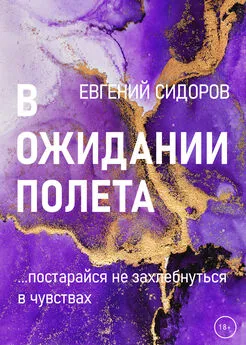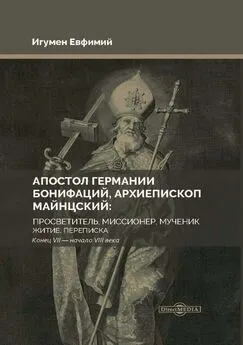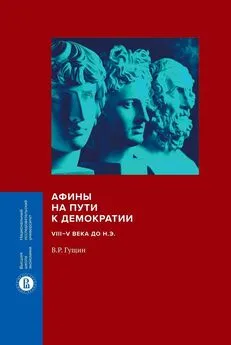Александр Сидоров - В ожидании Апокалипсиса. Франкское общество в эпоху Каролингов, VIII–X века
- Название:В ожидании Апокалипсиса. Франкское общество в эпоху Каролингов, VIII–X века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-02-039683-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - В ожидании Апокалипсиса. Франкское общество в эпоху Каролингов, VIII–X века краткое содержание
Книга предназначена для всех, кто интересуется историей и культурой западноевропейского Средневековья.
В ожидании Апокалипсиса. Франкское общество в эпоху Каролингов, VIII–X века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так называемые «Покаянные книги» дают некоторое представление об особенностях духовной жизни населения каролингской деревни. Мировоззрение, безусловно, было христианским, но это христианство имело весьма специфическую природу. Сельчане ходили в церковь, слушали проповеди, исповедовались и причащались, соблюдали посты и отмечали церковные праздники, крестили детей и отпевали покойников. Однако это никоим образом не мешало им сохранять приверженность различным магическим практикам, глубоко укорененным в язычестве. Они продолжали поклоняться деревья и источникам, а также различным «огороженным местам» — капищам, где стояли изображения идолов, совершали там жертвоприношения, пели песни, танцевали, принимали сакральную трапезу.
Церковные иерархи с завидным постоянством призывали разрушать капища, вырубать священные деревья и уничтожать идолов, но это не помогало — языческие культы и связанные с ними ритуальные практики никуда не исчезали. Более того, в иных случаях они становились важным элементом групповой идентичности и символом сопротивления франкскому господству. Историк «Нитхард описывает, как в начале 840-х гг. саксы, воспользовавшись междоусобной войной каролингских правителей за власть, выгнали из своих земель завоевателей-франков и на время восстановили древние языческие обычаи. Мятежники, среди которых были представители всех сословий — от благородных до сервов, называли себя Stellinga , что буквально означает «сыновья древнего закона».
В деревнях имелись колдуны, которые умели гадать по полету птиц и совершать различные предсказания. Они могли «призывать демонов», насылать порчу, причинять различные несчастья, заставлять людей бесноваться. Именно в таком негативном ключе представляют колдунов «покаянные книги». Тем не менее к ним постоянно обращались, чтобы вызвать дождь, уберечь скотину от болезней или обеспечить хороший урожай. Не приходится сомневаться, что приходские священники отлично знали этих людей, ведь они жили с ними бок о бок. Более того, сами эти пастыри сплошь и рядом происходили из числа местных крестьян, в том числе зависимых. Людовик Благочестивый специальным постановлением даже предписал сначала даровать им свободу, а потом постепенно возводить к алтарю, ибо «не должно служителям Христа пребывать в неволе человеческой».
Впрочем, бытовой магии в той или иной степени были со-причастны все без исключения деревенские жители. Согласно пенитенциалиям, едва ли не каждый мальчишка знал, как выманивать дождь из реки. Составители варварских правд, кодифицированных при Каролингах, вынуждены признать, что у ведьм имеются добровольные помощники, которые «носят за ними котел для варки зелья», и уверены, что порчу в принципе способен наслать любой. Более того, именно варварское законодательство легитимировало некоторые магические ритуалы. По крайней мере, те, которые не вступали в явное противоречие с христианскими воззрениями. Например, человеку, намеревающемуся «отказаться от родства» (т. е. от прав и обязанностей, налагаемых на него как на члена клана), полагалось публично сломать над головой три ветки, длиною непременно в локоть, да еще разбросать их на четыре стороны. Вполне возможно, что в каролингскую эпоху изначальный смысл этого и многих других древних ритуалов уже позабылся. Но для религиозно-магических практик верная последовательность действий порой была едва ли не важнее вложенного в них смысла. Это был особый способ взаимодействия с миром, опиравшийся на далеко не всегда понятные нам иррациональные основания и не нуждавшийся в рационально осмысленном эмпирическом опыте.
Духовенство на местах, как умело, боролось с различными проявлениями бытового язычества, но так и не сумело их одолеть, может быть, потому, что и само в глубине души верило в их действенность. Более того, пенитенциалии указывают, что некоторые явно магические ритуалы проникали и в повседневную церковную практику, причем это не регламентировалось никакими официальными постановлениями. Если вино из чаши для причастия случайно попадало на ткань, покрывающую алтарь, ее следовало трижды промыть, а воду выпить. Если во время евхаристии священник ронял на пол хлеб и потом «не мог его найти», в этом месте, т. е. по сути под алтарем, разводили огонь, а пепел намеренно не убирали. Наконец, самих священнослужителей не раз уличали в изготовлении всякого рода магических отваров, в том числе приворотного зелья. Иными словами, глубинная сакральная связь человека и окружающей его природы, предполагающая их тотальную сопряженность или, правильнее сказать, нераздельность, определяла не только повседневную жизнь франкского общества, но также глубину ц формы усвоения христианства. Остается лишь сожалеть, что по причине скудости источников детали этой реальности остаются скрытыми от глаз современных историков.
Глава 4.
Семья и дети
Куда больше определенности в современной науке относительно вопроса о средней продолжительности жизни и о характере брачно-семейных отношений. Многочисленные исследования 60–80-х гг. XX в., проведенные с опорой на разные источники и с использованием различных методик, позволяют утверждать, что средняя продолжительность жизни в ту эпоху не превышала 35–40 лет. Причем данный показатель характерен для всех слоев общества. Разумеется, это не означает, что все «старики» умирали примерно в таком возрасте. Иные аристократы, очевидно, благодаря хорошей наследственности, более качественному питанию и несравненно лучшим, нежели у крестьян, бытовым условиям, доживали до 60, 70 и более лет. Например, Рабан Мавр, аббат Фульды и архиепископ Майнца, скончался в возрасте 76 лет. Столь же почтенных лет достиг и Эббон, архиепископ Реймса. Алкуин, глава интеллектуального кружка при дворе Карла Великого, а затем аббат Мармутье, покинул земной мир в 69. Павел Диакон, один из отцов-основателей каролингского возрождения, ушел в 79. Среди Каролингов также встречались долгожители. Карлу Великому исполнилось не менее 68 лет (по другим данным, 72) — Эйнхард, много лет проведший при дворе императора, так и не смог выяснить точную дату. Людовик Благочестивый дожил до 62, Лотарь I — до 60, а Людовик Немецкий — до 71 года. Но, в общем и целом, для каролингской эпохи подобное долголетие — это редкость и подарок судьбы.
Абсолютное большинство людей умирало молодыми и даже очень молодыми. Женщины начинали рожать рано и рожали часто. Неудивительно, что к 25–30 годам их организм был уже очень сильно изношен, поэтому и жили они, как правило, значительно меньше мужчин. Детская смертность при высокой рождаемости достигала 55 процентов. Виной тому были болезни, плохое питание, многочисленные до-и послеродовые травмы, а также совершенно определенный тип демографического поведения, не слишком ориентированный на сохранение собственного потомства. В каролингских пенитенциалиях нередко встречаются указания на чудовищно пренебрежительное отношение родителей к детям. Младенцев по неосторожности, небрежности или в состоянии алкогольного опьянения калечили, душили в постели, где спали всей семьей, обваривали кипятком, положив слишком близко к очагу. А частенько и сознательно убивали, особенно девочек, чтобы сократить число едоков и, соответственно, размеры сеньориальных выплат. Характерно, что судьи принимали это во внимание и смягчали наказание, если выяснялось, что материальный достаток в семье невысок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: