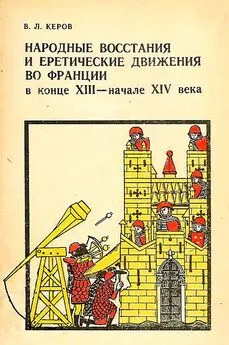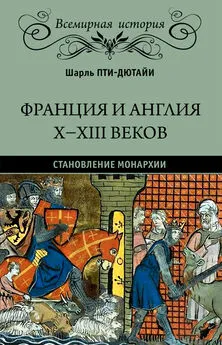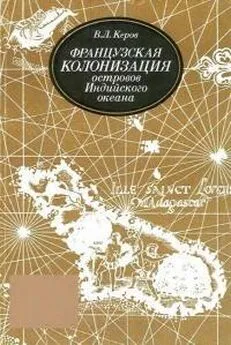Всеволод Керов - Народные восстания и еретические движения во Франции в конце XIII — начале XIV в.
- Название:Народные восстания и еретические движения во Франции в конце XIII — начале XIV в.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Университет дружбы народов
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Всеволод Керов - Народные восстания и еретические движения во Франции в конце XIII — начале XIV в. краткое содержание
Народные восстания и еретические движения во Франции в конце XIII — начале XIV в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С. Д, Сказкина глубоко интересовала проблема социальной роли и идейного содержания христианства. Он подчеркнул, что в феодальную эпоху христианство (католицизм) являлось «сильнейшим средством идеологического воздействия — идеологической формой внеэкономического принуждения…» (199, с. 128). В то же время он отметил своеобразную диалектику церковно-религиозного мышления: «Равенство всех и каждого "во Христе" есть наилучшая гарантия и оправдание классового, имущественного и всякого иного "естественного" неравенства в реальной жизни» (198, с. 126).
В трудах советских историков вскрывается социальная подоплека ересей как одного из видов революционной оппозиции феодализму (192). С. Д. Сказкин отметил также, что сущностью ереси являлся протест против господствующего социально-политического порядка (193). Н. А. Сидорова показала это на примере еретических народных движений во Франции в XI–XII вв., в частности на примере катаризма и вальденства. За богословской оболочкой ереси катаров и вальденсов скрывались антифеодальные требования народных масс (189, 190, см. также 207).
О бегинах и бегардах ранее упоминалось лишь в статьях, помещенных в некоторых энциклопедиях. При этом смешивались взгляды бегардов и бегинов различных стран и районов (118, 177). Находила отражение и вульгаризация научной терминологии К. Каутским, который называл общины бегардов «коммунистическими товариществами» и в целом их движение — «коммунистическим» (125).
3. В. Удальцова обратила внимание на необходимость различения социально-экономических и идейных истоков ересей и еретических народных движений. Она подчеркнула, в частности, что нельзя ставить знак равенства между богомильством и еретическими движениями Западной Европы (катаризмом и др.). Сходство их социальной сущности, антифеодальной направленности, а иногда и догматики было порождено сходными социально-экономическими условиями. В то же время 3. В. Удальцова практически не исключила возможности использования некоторых богомильских концепций ересями Франции и других стран Западной Европы в соответствии с особенностями социально-экономического и политического развития этих стран (212).
А. И. Клибанов, исследуя (на примере народных движений, распространенных в феодальной России) вопрос о роли ересей в феодальную эпоху, отметил, что религиозная форма ограничивает развитие социального протеста (143).
Советские историки исследуют также вопрос об особенностях мировоззрения участников народных движений, в частности еретических. Е. В. Гутнова констатирует наличие у крестьянства (с начала XIV в.) особой идеологии (109, 111). Она указывает, что наиболее прочным и постоянным союзником крестьянства в восстаниях XIV–XV вв., особенно в Западной и Центральной Европе, был городской плебс, часто оказывавший заметное воздействие на программы и идеологию восставших (115, с. 229). Ю. М. Сапрыкин, отмечая, что в XII–XIV вв. в Западной Европе появилось немало крестьянско-плебейских ересей, выдвигавших требования равенства и общности имущества, подчеркивает, что идея о первоначальном равенстве всех людей воодушевляла крестьян на борьбу против светских и духовных феодалов, против королевских чиновников (183). Соединение идеи равенства с идеей общности имущества он объясняет еще недостаточной социальной расчлененностью бедных крестьян (а также ремесленников) и плебейства (184; см. также 185).
Чрезвычайно важным является вопрос, поставленный С. Д. Сказкиным, об объединении ереси, возникшей в среде трудящихся, с ересью, шедшей от ученых людей, и об опасности такого объединения для католической церкви (195). Внимание советских медиевистов привлекли также вопросы о народной культуре и народной религиозности. Н. А. Сидорова писала о противоположности между духовной культурой крестьянских масс, городской культурой во Франции и феодально-церковной культурой господствующего класса. Она отметила, в частности, резко враждебное отношение церкви к так называемой провансальской культуре, тесно связанной с ранним развитием южно-французских городов (188).
Ю. Л. Бессмертный и А. Я. Гуревич пишут о тесной связи между народной культурой и народной религиозностью, включающей в себя языческие верования (108, см. также 107). Их наблюдения в отличие от выводов буржуазных историков имеют материалистическую основу (ср. 326, 353, 368).
Для определения подлинной роли движения спиритуалов и их идеологии большое значение имеют мысли, высказанные С. Д. Сказкиным и М. М. Смириным, в частности о влиянии на спиритуалов учения Иоахима Флорского.
С. Д. Сказкин и М. М. Смирин подчеркнули более радикальный характер взглядов спиритуалов по сравнению с концепциями Иоахима Флорского (193, с. 333; 201; 202, с. 1–23 и след.; ср. 206). Советские медиевисты обращают особое внимание на социальные и политические истоки призывов к бедности, выдвигавшиеся представителями различных классов и слоев. Советские историки рассматривают проблему бедности в неразрывной связи с социально-экономическими процессами и характером классовой борьбы при феодализме, подчеркивая при этом существование «абсолютной» бедности низших классов феодального общества (прежде всего в деревне) по отношению к высшим. Они отмечают, что неразрывную часть доктрины спиритуалов составляли радикальные представления о жизни в бедности (134, 202, с. 121; 109; 193, с. 290; ср. 225, с. 250 и след.).
Советский философ В. В. Соколов пишет, что спиритуалы выступали с требованиями о возвращении церкви к евангельской простоте (что неразрывно было связано с идеей жизни в бедности) и остро критиковали папу Иоанна XXII, всемерно усиливавшего фискальный гнет церкви (204).
Проблема спиритуалов и их взглядов затрагивается также в труде советского философа О. В. Трахтенберга, который пишет, однако, лишь о теолого-моральных трактатах Оливи, считая, что именно они «обосновывают» идеологию спиритуалов. Однако, не касаясь вопроса о философских концепциях Оливи, в частности, выдвинутой им теории «импульса», О. В. Трахтенберг указывает на значение подобной теории, высказанной в более позднее время Буриданом, косвенно отмечая тем самым значение и философских сочинений Оливи (211, с. 189–190, 213–214).
Правильному пониманию роли и места Оливи и спиритуалов в истории философской и политической мысли западноевропейского общества в XIII–XIV вв. помогают труды советских ученых, освещающие как различные стороны идейной жизни изучаемой эпохи, так и деятельность прогрессивных мыслителей (154, 332).
Советские медиевисты, уделяя большое внимание вопросу о роли церкви и государства в эпоху развитого феодализма, изучают влияние церковной и государственной политики на положение и классовую борьбу народных масс (144, 122, 105, 106, 156). Н. А. Хачатурян (Денисова) охарактеризовала важные особенности социально-экономического и политического развития Франции, определившие возникновение и дальнейшую судьбу Генеральных штатов. Она отметила обострение социально-политической борьбы во Франции в первые десятилетия XIV в., и в частности антифеодальную и антиправительственную направленность восстания «пастушков» 1320 г. (222, с. 52 и др.; 119, см. также 159, 113, 144, с. 207 и след.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: