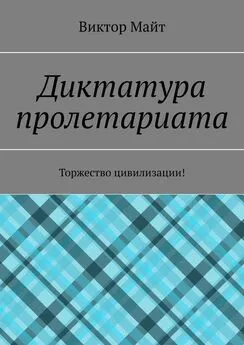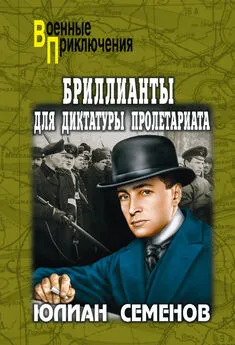Олаф Брок - Диктатура пролетариата
- Название:Диктатура пролетариата
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Сабашниковы
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-82420-168-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олаф Брок - Диктатура пролетариата краткое содержание
Вскоре вышли в свет переводы на шведский и французский языки. Был сделан, но так и не опубликован перевод на английский язык. Ни на один славянский язык книга переведена не была.
В настоящем издании «Диктатура пролетариата» впервые публикуется на русском языке. Также впервые в приложении публикуется перевод на русский «Путевых заметок» Олафа Брока, написанных им во время поездки в Россию по приглашению Императорской Академии Наук в 1902 году.
Переводы на русский язык были выполнены в Представительстве Университета Осло в Санкт-Петербурге.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Диктатура пролетариата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Острый момент в конкуренции между государственным предприятием «госиздат» и частными фирмами заключается в том, что государственная деятельность стремится к прибыли. Поэтому государство неохотно отдаёт книги, которые могут принести большой доход, – а, как уже говорилось, оно обладает властью сохранить за собой право на что угодно.
Разнообразие частных фирм, следовательно, становится весьма ограниченным. Им приходится искать то, что для власти и её органов представляется более или менее лишним, ненужным, во всяком случае неполноценным.
Но вдобавок материал должен быть безопасным, безвредным в глазах цензоров, часто невежественных и поразительно комичных в своей глупости. Кажется иронией судьбы, что вся литературная цензура быстро становится посмешищем. Сколько историй могла бы рассказать Россия о цензуре царских времён: смешных и прочих. Отнюдь не лестно, например, воспоминание о том, что первый том «Французской революции» Карлейля был запрещён и русские смогли прочитать книгу на родном языке лишь в 1907 году. Но то, что происходит сейчас в стране, являющейся образцом для наших коммунистов, затмевает всё прежнее. Совершенно очевидно, что цензура продолжает оставаться полем сражения.
«Постановлением от 28 декабря прошлого года Совет народных комиссаров освободил научные публикации от цензуры», – написал Фритьоф Нансен в своей статье о государственном образовании (в России) в газете «Знамение времени», в номере от 24 апреля упомянутого года. И больше ничего. Наверное, этот вопрос Нансена особенно не интересовал, хотя сведения о цензуре можно с лёгкостью обнаружить всюду, если, конечно, человек не хочет упорно закрывать на это глаза. Нансен приводит названные голые сведения в качестве примера улучшения условий в России, однако на самом деле эта информация практически ни о чём не говорит. Я лишь упомяну, что так называемые публицистические работы не освобождены от цензуры, и это открывает путь, как и во многих других случаях, произволу как со стороны системы, так и со стороны отдельных лиц. Но и в остальном слова «освободил от цензуры» следует истолковывать с изрядной долей скепсиса. Совершенно верно, предварительной цензуры нет, если автора не удостоят ею из любезности. Но зато когда книга напечатана или, по крайней мере, уже печатается, её отправляют цензору. Потому что продавать её без разрешения цензора нельзя. И на этой стадии процесс останавливается по различным соображениям – порой, например, не только из-за содержания, но и из-за литературы, написанной автором прежде. Это неимоверные препятствия на упомянутом пути, о чём бы речь ни шла: о большом или о малом.
Вышеупомянутую тему, разумеется, очень любят в повседневных разговорах. Я слышал много гротескных подробностей: что в словосочетании «Пётр Великий» второе слово должно писаться с маленькой буквы, что слово «святой» где только можно зачёркивают или изменяют, что даже в русской классической поэзии такое выражение, как «птичка Божия», было переделано на «птичка вольная», что в учебнике зоологии королевскую пчелу пришлось обозначить менее королевским словом, аналогичным образом изменили название «божья коровка», так как в нём содержится слово «Бог», и т. д. Одному издателю доставили большие неудобства. Он печатал работу – кажется, о Карлейле, не помню – во всяком случае, о мыслителе, много размышляющем о Боге и дьяволе, и в цитатах эти два слова приводились с заглавной буквы, в соответствии с авторским написанием. Цензор отослал работу обратно, заменив всюду заглавную букву в слове «Бог» на строчную, тогда как написание слова «дьявол» с заглавной было разрешено. Долгое время я был склонен считать, что эти истории представляют собой информацию, специально «обработанную» для создания большего комического эффекта, но потом со мной произошло следующее. Меня попросили написать небольшую статью о знаменитом покойном друге, содержащую сведения о малоизвестном периоде из его жизни. Статья была напечатана и откорректирована, но когда я приехал в Петроград, друзья с сожалением сообщили мне, что на окончательном этапе печать остановили из-за сложностей с цензурой. Я был в высшей степени изумлён, ведь я не затрагивал российской политики… Нет, дело было не в этом, а в моём упоминании о том, что мой друг в своём родном крае занимал должность земского начальника – а поскольку в 80-е годы эта должность была связана с реакционным направлением в юридической и административной сферах, даже само её название вызывало такую ненависть, что его не захотели включать в текст. Взамен предложили написать нечто вроде «общественной деятельности». На это я вполне мог согласиться, но как мы смеялись. Ведь бедной цензуре, тем не менее, никак было не изменить того, что мой друг действительно занимал эту должность и что должность эта являлась историческим фактом на протяжении десятилетий.
Но из-за цензуры пропадала и более ценная информация. От одной фирмы, издавшей ряд биографий видных людей, у меня есть сведения о судьбе биографии Потебни, одного из самых известных и оригинальных языковедов прежней России. Рассказывая о его школе и направлении, автор упоминал Канта, Гербарта, Штейнталя и других. Но этого цензура не потерпела. Философия опасна, идеалистическая философия подобна чуме – было вычеркнуто всё связанное с этими именами, с Шеллингом, даже с Огюстом Контом – последнее говорит многое о трактовке цензором своего собственного, коммунистического идейного направления.
Долгое время не хотели публиковать автобиографию историка и этнографа Костомарова, скончавшегося в 1885 году. Дело в том, что известный украинец был человеком религиозным, в связи с чем его воззрения были не по нраву власть имущим. Наконец согласие на печать – для приличия, если можно так сказать, – всё-таки дали, но только в 300 экземплярах, и, чтобы предотвратить мошенничество, экземпляры пронумеровали. В качестве относительного сравнения можно представить, как если бы в Норвегии издали какую-нибудь книгу, скажем, в четырёх-пяти, или, учитывая число нашей интеллигенции, в 20–25 экземплярах, каждый из которых для контроля снабжён собственным номером.
Что касается идейного содержания книг, бедные цензоры вынуждены сталкиваться с множеством щекотливых вопросов – многие из них проще и безопаснее всего решить, полностью запретив книгу. Именно это и случилось с работой «Корабль», содержавшей своеобразный материал, касающийся легенд о секте хлыстов времён императрицы Елизаветы, легенд о том, что первой «крёстной матерью» секты была именно дочь Петра Великого, и др. Конечно, материал был чисто исторический, но содержание было слишком «мистическим», и работу не издали. Один мой молодой друг написал научный труд об известном современном российском поэте Анне Ахматовой, о её стиле и др. Поскольку в творчестве поэта есть религиозные мотивы, то в содержании и характере цитат, естественно, было много «религиозного», в связи с чем цензор запретил работу. Однако цензора сменили, новый оказался более интеллигентным человеком, мой друг объяснил ему, что дело было всего лишь в цитатах из незапрещённых стихотворений, и работа прошла-таки сквозь чистилище.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
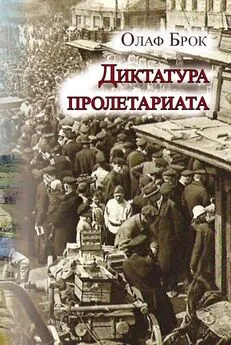

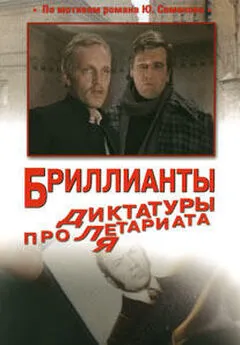
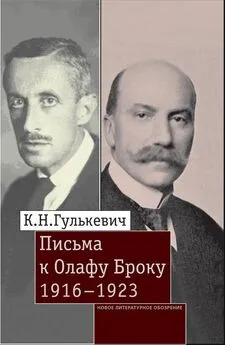

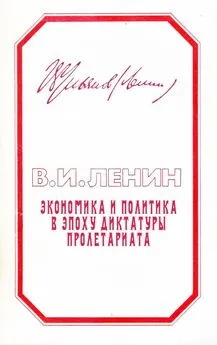
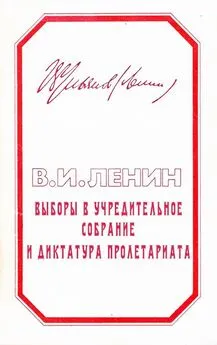
![Олаф Брок - Диктатура пролетариата [calibre]](/books/1150420/olaf-brok-diktatura-proletariata-calibre.webp)