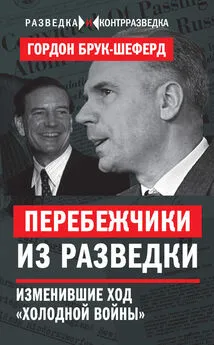Пол Картледж - Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории
- Название:Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-37971-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пол Картледж - Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории краткое содержание
В книге, написанной одним из ведущих специалистов по истории Спарты, британским историком Полом Картледжем, показано становление, расцвет и упадок спартанского общества и то огромное влияние, которое спартанцы оказали не только на Античные времена, но и на наше время. На страницах книги оживают такие исторические фигуры, как Ликург и герой Фермопил царь Леонид.
Автор сумел доказать, что спартанские женщины играли очень важную и яркую роль и имели большое влияние в этом, казалось бы, чисто мужском сообществе.
Мы включили в наше издание также и книгу Пола Картледжа, посвященную легендарному сражению при Фермопилах. На этом поле знаменитой битвы героические усилия горстки греческих воинов на века изменили представления сотен поколений о долге гражданина и солдата.
Битва при Фермопилах стала столкновением цивилизаций и поворотным пунктом мировой истории, навсегда определившим самобытность западного мира.
Спартанцы: Герои, изменившие ход истории. Фермопилы: Битва, изменившая ход истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В этих немногих словах Геродот сумел сказать очень многое о Спарте. Помимо своей воспитательной и военной системы, самой ощутимой отличительной культурной чертой Спарты была ее религиозная система. В других местах, и не единожды, Геродот говорит об исключительном благочестии, или религиозности, спартанцев: «Они ценили исходящее от богов как более авторитетное, чем исходящее от людей» [37] Геродот . 9.7.
. Собственно говоря, таковы были и все обычные греки, поэтому Геродот, сам человек глубоко религиозный и традиционно по-гречески благочестивый, безусловно имел в виду, что спартанцы считали свой долг перед богами значительно более абсолютным и обязывающим. Некоторым образом они применяли по отношению к богам свой взгляд на жизнь вообще — порядок, иерархия и безусловное подчинение. Боги как бы образовывали самую вершину величественной пирамиды непререкаемой власти. Не случайно, что в Спарте каждый бог и богиня изображались с оружием и в доспехах. Богиней — покровительницей города была Афина, и несмотря на свой пол, всегда и везде в Греции изображалась в шлеме, латах и с копьем в руке. И только исключительно в Спарте даже откровенно не воинственной Афродите (знающие Илиаду Гомера улыбнутся) придавался неуместно воинственный вид.
Почти слепая преданность богам объясняет, почему спартанцы шли на неуместные крайности, чтобы, изучая внутренности жертвенных животных или справляясь у оракулов, по возможности заранее узнать, какова божественная воля. Мы даже знаем о спартанских военачальниках, которые перед лицом абсолютной необходимости принять срочное решение в разгар сражения многократно приносили жертвоприношения, пока не получали таким образом ответ, казавшийся им приемлемым и осуществимым. За это Ксенофонт дал спартанцам прозвище «искусных военных дел мастеров» — сознательная метафора, поскольку им запрещалось быть искусными мастерами в обычном смысле слова. Одним из в высшей степени достойных упоминания аспектов исключительной религиозности спартанцев — исключительной не только в категориях Древней Греции — было их отношение к смерти.
В своей «биографии» Ликурга Плутарх говорит, что законодатель был весьма озабочен тем, чтобы освободить спартанцев от ненужного и истощающего страха смерти и умирания. С этой целью он разрешил хоронить трупы всех спартанцев, взрослых, равно как и младенцев, прямо на обычной территории проживания, а не, как было принято повсеместно в прочем греческом мире, по крайней мере примерно с 700 года до Р.Х., на тщательно отделенных специально обозначенных кладбищах вдали от жилой территории. Иными словами, спартанцы не разделяли нормального греческого убеждения, что захоронение автоматически приносит нечистоту ( miasma ). Они считали, что кремированные или захороненные тела их предков являются источником общинной солидарности и силы, а не слабости, и их следует принимать и жить с ними, а не питать к ним отвращение, избегать и убирать с глаз долой и из сердца вон.
С другой стороны, спартанцы все же оставили два места для захоронений на изрядном удалении от жилой территории города Спарта, хотя слово «захоронения», может быть, вводит в заблуждение. Одно из них — Кеады, ущелье, которое было идентифицировано как современная деревня Трипи («Дыра») на некотором расстоянии к западу от Спарты у входа в ущелье Лангада, ведущее через Тайгетский горный хребет в Мессены. В это ущелье сбрасывали тела преступников, осужденных за преступления, наказуемые смертью. Другое место гораздо более интересно с точки зрения спартанского отношения к жизни и смерти. Как уже отмечалось, спартанцы были весьма озабочены воспроизводством своего населения, но не просто его численностью. Имело значение также качество. Так, новорожденные младенцы (вероятно, обоих полов, но на данной стадии мужчины были гораздо важнее) подвергались ритуальному обследованию и проверке, проводимому «старейшинами рода», как Плутарх их называет. Их погружали в ванну предположительно неразбавленного вина, чтобы узнать их реакцию. Если они не проходили испытание, последствия были фатальными. Их уносили в место с загадочным названием «хранилища» ( apothetai ) и бросали в овраг на верную смерть [38] Это место с большой долей вероятности найдено близ деревни Парори недалеко от византийской Мистры на склоне горы Тайгет.
. Та же участь постигала младенцев, которым не повезло и они родились с некоторыми серьезными и уже очевидными физическими недостатками.
«Отказ» от новорожденных никоим образом не был обычаем уникальным для Древней Спарты. Он также был положительно рекомендован в утопических философских предписаниях как Платона, так и Аристотеля. Однако в прочих греческих городах эта процедура была значительно более мягкой и иначе организована. Полнота контроля за процессом принадлежала родителям, а не государству, и к отказу чаще всего прибегали по экономическим причинам, а не из соображений евгеники или по указке государства. Кроме того, вовсе не обязательно ожидалось, не говоря о том, что желалось, что отказ автоматически означал смерть. В Афинах, например, существовал общепризнанный термин (( en ) khutrizein ) для практики возложения новорожденного в большой глиняный сосуд в надежде, что какая-нибудь другая семья, бездетная по физиологическим или иным причинам, но материально способная и психологически желающая, может подобрать и воспитать его.
Так что спартанцы не только воспитывались в близком знакомстве со смертью и похоронами, но их учили тому, что они должны готовиться к утрате ребенка, представлявшегося обузой для общества или государства. В соответствии с этой точкой зрения, спартанцы не испытывали потребности исполнять похоронные песни и танцы или соблюдать траурные церемонии; значительное исключение — государственные похороны спартанского царя — было только эффектным подтверждением этого правила [39] См. главу 8.
. Поэтому покойного спартанца, спартанку или ребенка хоронили не в роскошной, не говоря уж о том, чтобы внешне броской или монументальной гробнице, а в простой яме, вырытой в земле, в сопровождении минимума похоронных принадлежностей. Плутарх рассказывает, что правила захоронения взрослого мужчины допускали только знаменитый алый военный плащ, при этом тело клали просто на подстилку из лавровых листьев. (Это, кстати, может объяснить, почему до сих пор найдено так мало спартанских могил этого исторического периода.)
Покойному спартанцу не разрешалось иметь даже столь незначительную роскошь, как надгробный камень с обозначением его имени — за двумя исключениями. Во-первых, солдату, убитому на войне, разрешалось упоминание его имени на надгробии вслед за двумя простыми словами: «на войне» — воистину лаконичное сообщение. Лаконичная (спартанская) речь была краткой, сжатой и четкой, но соответственно предполагалось, что каждый слог должен быть произнесен. Такое посмертное чествование было логическим следующим шагом за прославлением спартанцами «красивой смерти» воина на поле боя. Такое отношение восходит по меньшей мере к середине седьмого века, так как оно встречается уже в стихах Тиртея: «терпи, видя кровавую смерть, / нападай на врага, стоя рядом» [40] Tyrtaeus Fragments , 12.11.14.
. Тиртей был спартанским национальным военным поэтом, и его военная лирика пережила столетия, мальчики в ходе обучения принудительно заучивали ее наизусть и регулярно декламировали во взрослом возрасте во время военных кампаний. Суть выражения «стоя рядом» в том, что это стихи о гоплитах: Тиртей представляет кровавую битву сомкнутой плечом к плечу фаланги. Второе исключение и послабление касалось либо жриц, либо — и этот вариант требует серьезной переделки дошедшего текста Плутарха — женщин, умерших родами. Оба варианта получают совершенно разумное объяснение в рамках общего контекста известных спартанских общинных ценностей. Возвеличивание смерти жрицы полностью соответствует спартанскому предпочтению религии — отношение людей к богам всегда имело преимущество перед мирскими делами, т. е. отношениями между людьми. Особое положение женщин, умерших во время родов, соответствует заботе о продолжении рода, а также отдает долг уважения к матери (особенно матери потенциального сына-воина) наравне с социальным вкладом взрослого мужчины-воина: первая дала новую жизнь Спарте, а второй отдал за нее собственную жизнь.
Интервал:
Закладка: