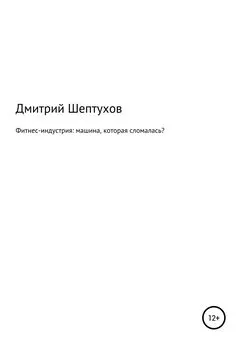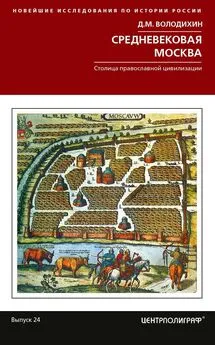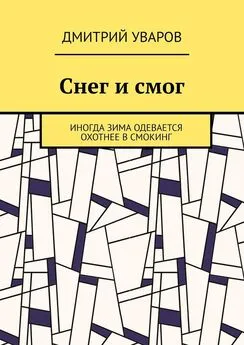Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии
- Название:Средневековые метательные машины западной Евразии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2004
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии краткое содержание
Средневековые метательные машины западной Евразии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эта цитата почти дословно появляется еще в нескольких более поздних северо-восточных летописях (Софийской, Тверской, Львовской), однако уже применительно к осаде Чернигова монголо-татарами в 1239 г. Наиболее ранние (и достоверные в данном вопросе) Ипатьевская и Лаврентьевская летописи ничего не говорят о применении пороков в 1239 г. — из их сообщений создается впечатление, что монголо-татары взяли город сравнительно легко, после того как князь Мстислав Глебович был разбит перед ним в полевом сражении. Пороки появляются только в московской Софийской летописи XV века — «Слыша же Мьстислав Глебовичь нападание иноплеменых на град и прииде на ня с своими вои. Бившеся им крепко, лют бо бе бои у Чернигова, оже и тараны на нь поставиша, и меташа на нь камением полтора перестрела, а камень же, яко же можааху 4 мужи силнии подьяти…» (см. Приложение 3). Многими исследователями русских летописей высказывалось предположение, что здесь имела место ошибка переписчика — сообщение о более ранней осаде Чернигова в 1234 г. (имеющееся только в Ипатьевской летописи) совместилось с более поздней, но более важной осадой 1239 г.
Как видим, фраза в первой Софийской летописи составлена двусмысленно — то ли речь идет о русских, то ли о монголо-татарах. В Тверской летописи 1534 г. пользователями пороков становятся русские — «…и бысть брань люта, а из града на них камение с пороков метаху за полтора перестрела, а камение два человека възднимаху…» , причем в этом позднем пересказе с поднятием метаемого камня справляются два человека вместо первоначальных четырех. Львовская летопись 1560 г. столь же однозначна — «…и бысть люта брань, а из города на них из пороков метаху камение за полтора перестрелу, а камени едва возднимаху четыре человеки…» В советское время эти поздние сообщения довольно недобросовестным образом использовались для попыток доказать широкое использование больших метательных машин русскими во время нашествия Батыя. Однако такая трактовка совершенно несовместима с контекстом — не русские осаждали монголо-татар, а монголо-татары русских. Тараны же и машины, метающие камни за 100 кг весом, имеет смысл применять только для разрушения укреплений. Здравый смысл требует признать, что даже если сообщение о применение пороков в 1239 г. достоверно, то относиться оно могло только к монголо-татарам.
К сожалению, сейчас уже невозможно установить, ошибались ли летописцы и, если нет, что именно они имели в виду. Ясно лишь, что в Южной Руси большие стенобитные пороки начали применяться только в 1230-х гг., первоначально их применение было очень редким, «экспериментальным», и проникли они туда из католических стран — Польши и Венгрии.
Первым надежным упоминанием применения пороков в Северной Руси является новгородский поход 1268 г. на Раковор (Раквере) в совр. Эстонии. К этому времени пороки были уже хорошо знакомы русским, у которых даже имелись свои «порочные мастера». Этот эпизод хорошо соотносится с приведенными выше сообщениями немецких хроник о боях в Прибалтике в 1206–1223 гг., согласно которым ни полочане, ни новгородцы и псковичи ранее метательных машин не знали и перенимали их у немецко-датских крестоносцев, поначалу не очень умело.
Об отсутствии на Руси пороков до 1230-х гг. косвенно свидетельствуют и особенности древнерусской оборонительной архитектуры к моменту монголо-татарского нашествия. Укрепления были исключительно дерево-земляными (за исключением немногих небольших городских цитаделей, вроде новгородского «детинца») — довольно высокий вал, на нем невысокая стена из деревянных срубов, засыпанных землей, без каких-либо внутренних казематов с бойницами. Воины располагались только на заборолах — площадках вверху стены, прикрытых частоколом или деревянным бруствером. Заборола были уязвимы для разрушения даже не самыми тяжелыми камнями, серьезную угрозу для них представляли и зажигательные снаряды. После этого оставшиеся без прикрытия защитники легко сметались со стены массированным обстрелом из луков и легких скорострельных требюше. Такие укрепления не имели башен, способных обеспечить фланкирующий обстрел. Они обеспечивали хорошую защиту от тарана, но не предполагали применения противником камнеметательной техники. Против монголо-татар, обладавших мощными камнеметами и эффективными зажигательными средствами, даже крупные города вроде Рязани и Владимира держались только 5–6 дней. Кажущимся исключением является 7-недельная осада Козельска, однако штурм его крупными силами занял только 3 дня.
Успеху монголов способствовало равнинное расположение большинства русских городов. Напротив, камнеметы оказались неэффективны против небольших волынских крепостей, расположенных на возвышенности (Колодяжин), некоторые из них они даже не пытались штурмовать (Кременец, Данилов).
Примечательно, что в Польше и, особенно, Моравии успехи монголо-татар по захвату городов были значительно скромнее. После победы в полевом сражении у Легницы они не смогли взять ни сам этот город, ни соседний Рацибуж; хотя они взяли Краков (вероятно, еще не имевший каменной стены), но не смогли захватить каменный собор в центре города. В Моравии им не удалось взять Опаву, Оломоуц и Градищенский монастырь. Очевидно, разрушение их каменных укреплений требовало долгих осадных работ, которых монголо-татары уже не могли себе позволить. Значительно больше городов они взяли в равнинной Венгрии, причем там хронисты отмечают широкое применение зажигательных средств: еще до штурма были сожжены Буда и предместья Альбы (Секешсехервара). Альбу они так и не взяли — её защищали обширные болота, видимо, мешавшие применять камнеметы, а также и защитники активно применяли собственные машины. Отбились и многие города Словакии (Братислава, Комарно, Тренчин, Нитра, Бецков) — последние из них, очевидно, в силу возвышенного местоположения. Не взяли и цитадель венгерской столицы, Эстергома, хотя сам город был захвачен после непрерывной работы 30 камнемётов. Венгры также активно использовали баллисты и камнемёты, отмеченные, в частности, в Пеште. Наконец, не удались монголо-татарам атаки на города Далмации — горные Клиссу и Траву, приморскую Рагузу (Дубровник).
В Приложении 3 приведен перечень упоминаний о пороках в «Софийской первой летописи старшего извода», Псковской, Новгородской первой, Тверской летописях, Рогожском Летописце (тверского происхождения), поздней общерусской Львовской летописи, Лаврентьевской и Ипатьевской летописях.
Софийская первая летопись поставлена на первое место, поскольку: а) это официальная московская летопись XV века, то есть составлена она в княжестве, ставшем основой будущего российского государства и наиболее передовом в военном отношении к концу интересующего нас периода; б) будучи доведена до 1422 г., она наиболее близка по времени к периоду использования пороков и полностью охватывает этот период; в) в ней равное влияние уделено как северо-западной зоне «немецкого» технического влияния, так и юго-восточной зоне «мусульманского» влияния, что позволяет оценить весомость каждого из них.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
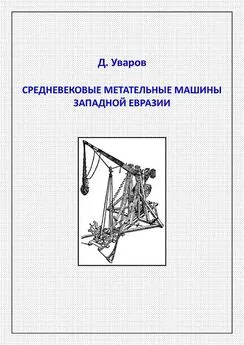


![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)