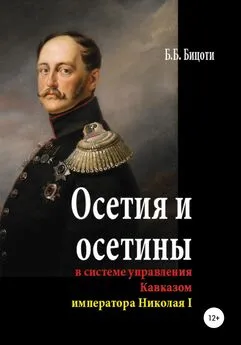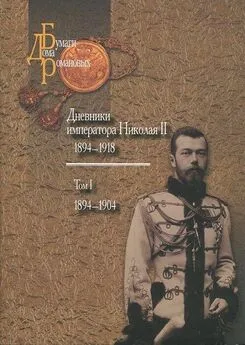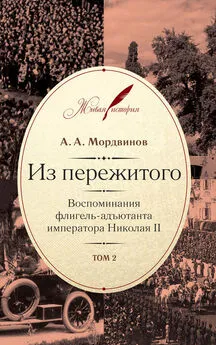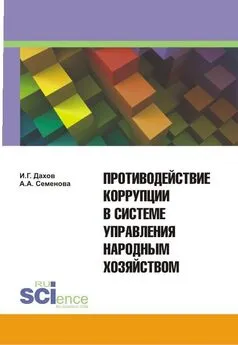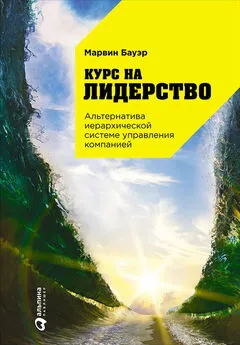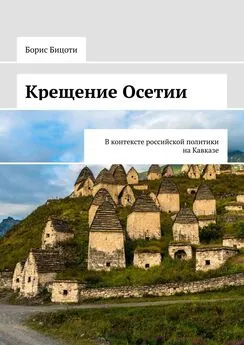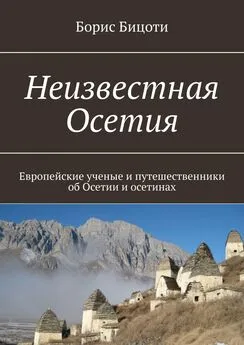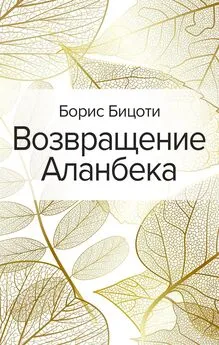Борис Бицоти - Осетия и осетины в системе управления Кавказом императора Николая I
- Название:Осетия и осетины в системе управления Кавказом императора Николая I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Бицоти - Осетия и осетины в системе управления Кавказом императора Николая I краткое содержание
Осетия и осетины в системе управления Кавказом императора Николая I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если генерал Рененкампф со своими солдатами на юге в общей сложности истребили 7 деревень, то Абхазовым на севере было сожжено порядка 10 сел. После военной операции переселение осетин на равнину, таким образом, приобретает новый, насильственный характер. Жителям сожженых сел приходилось искать возможности поселиться на плоскости. Селения Нижний Кобан и Чми, по приказу Абхазова были уничтожены без права восстановления, а их население выселено на равнину насильственно. Так, после уничтожения селения Чми все его жители конвоируются к крепости Владикавказ, где им вскоре выделяется земля для создания нового поселения. Это поселение было заложено в урочище Карджин близ реки Камбилеевки. Выселенные жители селения Кобан основали свое новое поселение между Ардонски и Архонским постом, сохранив его прежнее название.[116] В дальнейшем, однако, оно было ликвидировано, как и другие поселения осетин близ крепости на равнине.[117]
Реляции о походе против осетин не попали на передовые полосы «Тифлисских ведомостей», как это случалось после побед против неприятеля под Елизаветполем, Эрзерумом и Ахалцыхом. Возможно, ход и результат экспедиции не являлись достаточным предметом гордости для Николая I и не могли послужить укреплению его авторитета – речь шла не о войне с регулярными войсками, а о карательных действиях против горского ополчения и мирных жителей.
В отчетах же и рапортах операция в Осетии подавалась как первый успех войск Паскевича в деле покорения северокавказских горцев, а одним из главных ее итогов стало установление на покоренных землях «полицейского порядка». В ознаменование удачного исхода экспедиции Абхазова комендантом крепости Владикавказ был дан специальный бал.[118] Вскоре Абхазову были также выделены средства на по укрепление и расширение крепости Владикавказ, в которой концентрировалось административное управление и учреждался Окружной суд.[119] Так, согласно рапорту князя Абхазова, администрацией были утверждены планы на строительство во Владкиавказе крепостных ворот, 14 будок для часовых, деревянного бруствера вокруг крепости, а также солдатской казармы, гауптвахты, дома офицерского штаба и т. д.[120] Однако поводов для оптимизма после экспедиции к тагаурцам у военных, на самом деле, было мало – на Кавказе начиналась самая ожесточенная фаза затяжной войны.
Какое впечатление произвела операция Паскевича на соседние народы, сказать нетрудно. Именно после экспедиций в Осетию горцам всего Северного Кавказа, как сообщает Розен в своем письме военному министру Чернышеву, стали очевидны планы российской власти покорения их силой оружия.[121] Выбор осетин для демонстрации силы скорее подорвал доверие к российской власти других горцев, нежели произвел на них желаемое впечатление. Английский путешественник Эдмонд Спенсер приводит в своей книге речь одного из вождей адыгов на крупном сходе, который он посетил: «Посмотрите на ваших собратьев ингушей, осетинов, гаудомакариев (…), чьи мечи выскакивали из ножен при малейшем намеке на то, чтобы склонить их головы под иностранным ярмом. Кто они сейчас? Рабы!»[122]
Оба генерала за операцию в Осетии получили по ордену Св. Анны 1-й степени. При этом, судьба генерала Абхазова далее сложилась печально. Вскоре после окончания осетинских дел он был вызван своим начальником фельдмаршалом Паскевичем в Польшу, но внезапно по дороге заболел холерой и умер.
Время барона Г. В. Розена
Периоды правления на Кавказе отдельных наместников отличались друг от друга не только продолжительностью, но и степенью успешности в деле интеграции горцев в систему российского управления. Так, к примеру, известно, что за двадцатилетний срок между периодами управления А. П. Ермолова и М. С. Воронцова на Кавказе не было построено ни одного стратегически важного укрепления.[123] Именно при Ермолове возникла новая линия укреплений на левом берегу Терека, включающая Ардонский пост, вдоль маршрута следования Военно-Грузинской дороги. Сам Ермолов, находясь все последующее время фактически в ссылке в своем родовом имении и критикуя в переписке с М. С. Воронцовым своих «нерадивых» преемников в лице фельдмаршала И. Ф. Паскевича, генералов Е. А. Головина и А. И. Нейдгардта, писал: «Умолчу о бароне Розене, истинно полезном человеке».[124]
Ореол мученичества, появившийся у Розена после его отставки, его конфликт с петербургским сенатором П. В. Ганом, увольнение и скорая кончина не позволили авторам демонизировать этого наместника – практикуемые при Ермолове казни через повешенье без суда и следствия, о которых стало известно в ходе ревизии сенаторов Мечникова и Кутайсова, при Розене не проводились. При нем русская армия не знала сокрушительных поражений и не отступала к своим непроходимыми лесами неся небывалые потери, как это случится во время даргинского похода Воронцова. Но и героем кавказской войны в глазах потомков Розен тоже не стал – на фоне его побед слишком невыгодно смотрелись бы успехи его преемников – М. С. Воронцова и А. И. Барятинского.
Надо понимать, что Розен после его опалы никем и никогда не был реабилитирован – такой практики тогда даже не существовало. Эту миссию тем более не стали возлагать на себя штабные историки второй половины XIX в. Во времена Александра II в империи хоть и появилась гласность, но к описанию периода правления его отца Николая I, это не применялось. Ко всем свершениям николаевской эпохи историкам надо было относиться с пиететом, тем более, если дело касалось кавказских дел. И поэтому авторы, находившиеся на службе российского императора, несмотря на все заслуги Розена, после эпизода с его скандальной отставкой, инициированной самим Николаем I, никак не могли сделать из него героя.
Со временем сложилось мнение, что Розен, которому приписывалось незнание всех обстоятельств управления краем,[125] так и не успел по-настоящему войти в курс дела, был нерешительным управляющим и пал жертвой деспотизма Николая I. Успехи и вклад Розена в административное устройство Кавказа, ввиду подобного особого стечения обстоятельств, не были по достоинству оценены ни современниками, ни потомками. Между тем, во времена Розена конфликт югоосетинских крестьян и грузинских тавадов, зародившийся при П. Д. Цицианове, скорее затихает, нежели обостряется. Более того, именно Розену принадлежит такая инициатива, как учреждение на южной стороне Кавказа мононационального Осетинского округа, что было призвано устранить наметившиеся противоречия. И, хотя за время его нахождения в должности проект в полной мере реализовать так и не удалось, Осетинский округ на Южном Кавказе впоследствии все-таки был создан и просуществовал до конца 50-х гг.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: