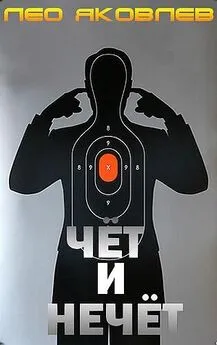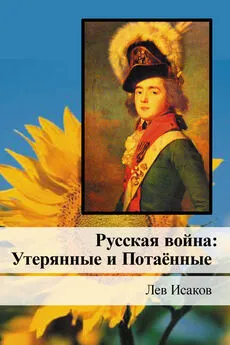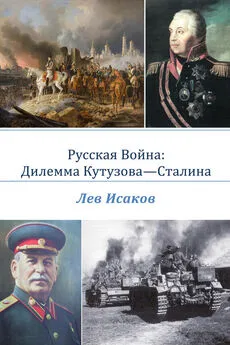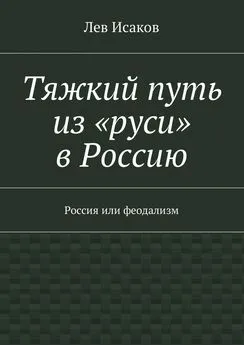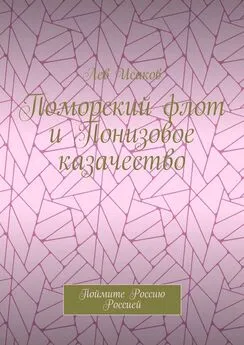Лев Исаков - Этнология через «ЧЁТ» и «НЕЧЁТ»: Великие Империи. Россия и Китай
- Название:Этнология через «ЧЁТ» и «НЕЧЁТ»: Великие Империи. Россия и Китай
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005309358
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Исаков - Этнология через «ЧЁТ» и «НЕЧЁТ»: Великие Империи. Россия и Китай краткое содержание
Этнология через «ЧЁТ» и «НЕЧЁТ»: Великие Империи. Россия и Китай - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если баснословный эпизод с глазами Бармы и Постника и имел место, то не за «лепоту» Храма Василия Блаженного, а за неслыханное для 16 века нарушение национально-русского канона, 9-главое «нечетное» купольное завершение вместо «четного» староотеческого, с какими построили деревянные соборы в Кижах безымянные носители национальной традиции 18 века.
«Четность сознания» проектировалась на нумерологическую оценку чисел: нечетные женские, плохие; четные мужские, хорошие. Так, в терминологии дней старославянской 6-дневной недели предшественницей которой была 8-дневная протоиндо-европейская, четные дни именуются в мужском роде, нечетные в женском – исключая понедельник и субботу, но эта коллизия уже связана с самостоятельным мифологическим сюжетом, слишком обширным для изложения и предполагающим полемику. (В 1999 году мной написано большое исследование о возникновении «недельного» конструкта кампутистики – увы, и по настоящее время не созрели условия к его публикации. Могу только оговориться, славяно-русская «суббота» и по термину и по символике НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к еврейскому «дню шаббат» не имеет – поверьте пока на слово названию западно-славянского святилища 1—11 в. «Субботка»). Эту связь «плохих», «женских», «нечетных» дней выразительно демонстрирует русская традиция недельных предохранительных постов: «понедельничать», «средничать», «пятничать».
Нельзя не отметить, что это уже не «дуально-дополнительная четность», а «четность конфликта», внесенного иным, христианским сознанием, но строй «недели» в основе своей остается «старо-четным»; «бес-четное» «воскресенье» своим средним родом выброшено из оценок «плохая – хороший», оно «никакое – чужое».
Здесь уместно остановиться на «троичности» сюжета русских народных сказок, которую считают наиболее авторитетным свидетельством о «троичности» сознания великороссов. Оставляя до лучших времен разбор всех вариантов, как и исторически обусловленный, не безотносительный характер этого феномена: древнейшие легенды ее не знают; в классических былинах она выражена слабо – следует отметить, что «троичность» сюжета имеет ядром, из которого она разрастается уже и на детали и на механику построения сюжета, конфликт 2-х против 1-го, т.е. дуально-групповой, при этом «парная группа» старшие, «одиночная» – младший. «Одиночка» по преимуществу подчеркнуто плохой, в обыденных оценках «дурак», «больной», «неумеха», «урод», старшие «положительны» – иногда распределение качеств противоположное; но во всех случаях это дуальное противостояние с многоплановой моралью: попрание интересов «младшего» и его восстание против старших; явление нового вопреки старому; рискованный успех или традиционное прозябание – но его разрешение достигается не утверждением, а ликвидацией «троичности». «Одиночка» оформляется как «беглец», процветающий где-то там, в социальных ли высях, тридесятых ли далях – в реальной обыденной жизни остаются «двое»:
«Старший умный был детина,
Средний был и так и сяк…»
А на что ориентирует подобный результат? Как-то в околотке коньков-горбунков не наблюдается…
Уже будучи во внимании всей России генерал-фельдцехмейстер Г. Г. Орлов и генерал-аншеф и полный адмирал А. Г. Орлов стоя ждали, пока старший брат отставной штабс-капитан гвардии И. Г. Орлов сядет за стол и кивком головы пригласит младших…, игрались конечно, но только ли? Ведь между прочим 5 братьев Орловых вплоть до смерти старшего держали свои имения нераздельно под его управлением… Как и 5 братьев Гриневых, уже из иной эпохи описанных А. С. Пушкиным.
Сам по себе феномен «четности/нечетности» сознания, объективно выступающий в культурных артефактах, не вполне объясним через призму единственно идейно-исторических установок; признается, что в нем реализуется психология бессознательного, при этом и субъективно и этнообъективно, что отражается уже и на практически-стороннем, в частности на особенности становления феномена преднауки.
******
Только исходя из «дуально-двоичного» сознания можно объяснить феномен древнерусской «двоичной арифметики». Удивительно, на 367 страницах естественно-научной части «Древнерусской космологии» авторы даже не заикнулись о существовании таковой. Следует признать, что зарубежные исследователи придают этому достижению древнерусской культуры некоторое значение: в серьезных капитальных трудах по истории математики, упоминается об этом необъяснимом с точки зрения западного представления о состоянии древнерусского социума феномене – еще в конце 19 века крестьяне русского Севера пользовались двоичной системой счисления; естественно, унаследованной от очень отдаленных времен, куда как более ранних нежели ее официальное открытие на Западе в 18 веке Г. В. Лейбницем; и в начале 19 века Чарльзом Бэббиджем и Адой Лавлейс для предполагавшейся счетно-аналитической машины. Увы, г-да Симонов и К° или не знают, или игнорируют этот факт, о котором с должным почтением упоминает Н. Винер, отец современной кибернетики.
Еще Карл Штейнен установил, что практические потребности древнего человека настоятельно обращали его преимущественно к арифметической операции деления (туш, шкур, групп охотников и загонщиков и т.д.), но и задающей важные идеологические установки сознания («делят» горе, радость, беду, судьбу и т.д.); и последняя является очень древней, и может быть первой по открытию.
Т.к. процесс абстрактизации, свидетельствующий о напряженном поиске смысла за внешней данностью, как и оформление группы числительных в языке относится к предмезолиту и мезолиту (15—6 тыс. д.н.э.), то именно на этот период и следует отнести оформление протоматематики; признавая, что в Евразии, как установили А. Окладников, О. Бадер, Т. Фролов, его генезис восходит к 28—23 тыс. д.н. э. Но при этом именно «двоичная» при всей своей внешней экстравагантности современному опутанному предрассудками десятичной позиционный системы счисления сознанию, обладает уникальным свойством в отношении деления – деление в ней на число вида 2n сводится к сдвигу вправо на n разрядов записи числа в двоичном коде, т.е. например
11012: [2110 = 102] = 110.12
Таким образом, не требуется никаких расчетов, деление осуществляется даже легче сложения. Разве что следует в расчетах в качестве делителей использовать преимущественно числа 2n; практика же давно установила, что «физическое деление» реальных объектов методом «пополам» самый универсальный и удобный способ. Как много за это свидетельствуют русские меры, переполненные половинами-«полтинами», «четвертями», «восьмушками», шестнадцатыми-«шкаликами», т.е. 0.12; 0.012; 0.0012; 0.00012 в двоичной записи, уже за пределами собственно двоичной основы системы счисления. Впрочем, обратное неверно, и такую недопустимую «ошибку» делает, например, Д. Кнут, из двойного шага мер объема средневековой Англии делая вывод, что «двоичную систему счисления» открыли… английские виноторговцы. Увы, оттого, что 2 джилла = 1 полуштоф, 2 полуштофа = 1 пинта, 2 пинты = 1 кварта … – двоичная арифметика не рождается. «Ошибку» беру в кавычки – д-р Д. Кнут не мог не читать как специальных, так и беллетризированных работ д-ра Н. Винера, популяризировавших «русскую простонародную математику», о которой он узнал от эмигранта профессора Я. Д. Тамаркина; обращаясь, естественно, в строгой лейбницианской форме, к американскому компьютерному сообществу 40—60-х годов 20 века.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: