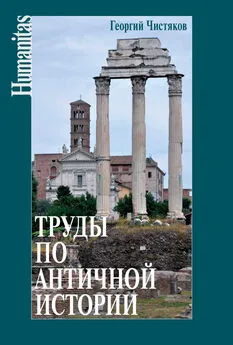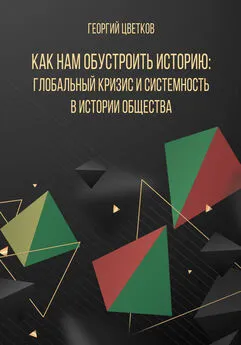Георгий Зингер - На раскалённых подмостках истории. Сцена, трибуна и улица Парижа от падения Бастилии до Наполеона (1789—1799). Очерки
- Название:На раскалённых подмостках истории. Сцена, трибуна и улица Парижа от падения Бастилии до Наполеона (1789—1799). Очерки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449676771
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Зингер - На раскалённых подмостках истории. Сцена, трибуна и улица Парижа от падения Бастилии до Наполеона (1789—1799). Очерки краткое содержание
На раскалённых подмостках истории. Сцена, трибуна и улица Парижа от падения Бастилии до Наполеона (1789—1799). Очерки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Люди революционной поры в своем воображении видели себя в тогах и на котурнах и не стеснялись этого. Историк, пишущий о них, не должен забывать, что такие фигуры, как Марат, Дантон, Робеспьер, в глазах современников и ближайших потомков были героями или злодеями всемирного исторического спектакля. Они и сами смотрели на себя как бы двойным зрением: им казалось, что на подмостках истории они выступают как народные трибуны Франции и одновременно – как персонажи вновь разыгрываемой великой классической трагедии в духе греков и римлян. В жизни, борьбе и смерти они ощущали себя Периклами и Гракхами нового времени.
Итак, ранее с театром сравнивали повседневный обиход, теперь – историю. В России, например, это уподобление быстро войдёт в моду, сделавшись расхожим до тривиальности. В конце екатерининского правления все станут говорить: «Феатр истории».
При этом следует заметить, что упоминание Перикла и Гракха, персонажей исторических, наряду с героями античной трагедии – отнюдь не случайная оговорка. Эпоха Великой Французской революции щедро наделяла собственными представлениями иные исторические слои жизни и культуры. Её современники были убеждены, что подлинные Гракхи и Периклы в своих речах и поступках тоже следовали надлежащим театральным образцам, так что, в сущности, нет разницы между реальным греческим или римским полководцем, государственным деятелем и героями Софокла или Сенеки.
Говоря об английской революции XVI века и французской XVIII-го, Маркс, в подобных материях кое-что смысливший, как бы к нему ни относиться, заметил: «В этих революциях заклинание мёртвых служило для возвеличивания новой борьбы, а не для пародирования старой, служило для того, чтобы преувеличить значение данной задачи в фантазии, для того, чтобы найти снова дух революции, а не для того, чтобы носиться с её призраками».
Помнится, советские историки литературы охотно использовали эту цитату, удобную вдвойне: ссылка на Маркса оповещала цензуру об авторской благонадежности, а «преображение в фантазии» легко и не без основания можно было истолковать как исток французского революционного классицизма, ведущего художественного течения той поры. Но здесь стоит несколько расширить поле обзора, включив в круг рассматриваемых явлений лицо, о котором нередко забывают – зрителя. Без него картина получается неполной, и дело здесь не только в том, что именно он являлся законодателем вкуса. Главное – зритель тех лет видел себя полноправным участником зрелища, поскольку чувствовал, что и сам он – актёр на всемирном «феатре истории».
«…Просят уравнять их в правах с шутами»
Театр это братство. Это равенство… и королеве прислуживают не лучше, нежели матросу… Кружевной платочек или холщовый рукав утирает те же глаза человеческие.
Огюст ВакриВо время созыва Генеральных Штатов выборщики от разных сословий вручали своим избранникам наказы с перечислением требований и прошений, кои те должны были изложить прилюдно перед лицом высшей власти. С особой просьбой к почтенному собранию обратились и актёры «Первого Театра Франции». Теперь его называют Комеди-Франсез, Театром Французской Комедии. Тогда он именовался ещё и Французским Театром (коль скоро из всех драматических этот принадлежал королю, а значит – всей Франции), Домом Мольера – поскольку среди первых его исполнителей были и актёры мольеровской труппы, а кроме того – Сообществом Комедиантов Его величества. Так вот, в своей челобитной члены Сообщества (сосьетеры) обращали внимание Генеральных Штатов и всей просвещённой нации на прискорбное положение служителей драматического искусства. Они жаловались на беспримерное презрение к их роду занятий. Так, адвокаты некогда приняли специальное постановление, в согласии с которым должны были исключаться – и действительно исключались – из их корпорации все члены, не только подвизающиеся на подмостках, но даже породнившиеся с кем-нибудь из актёрской братии. Парламент вообще не признавал актёрского сословия, вследствие чего комедианты, лишённые, так сказать, гражданского лица, не имели возможности затевать судебные процессы. Такой порядок, вероятно, представлялся служителям правосудия благословенным избавлением, если принять во внимание головоломнейшие внутритеатральные интриги, которыми славились придворные труппы. Но это значило, что каким бы несправедливым утеснениям ни подвергались актёры, им было отказано в праве отстаивать в обычном порядке своё имущество, честь и достоинство.
Итак, люди театра скромно напоминали Генеральным Штатам, что Людовик XIII ещё в XVII веке особым «монаршим соизволением» признал за ними право считать своё звание не предосудительным и в нравственном отношении не зазорным. За давностью лет этот рескрипт был предан забвению, и вот ныне, ободренные новыми веяниями, актёры осмеливались просить о придании ему законной силы.
Ещё смиреннее выглядело обращение к властям церковным: актёры Его величества нижайше ходатайствовали об уравнении их в правах с… шутами и буффонами Его величества, поскольку эту категорию лицедеев терпели и не подвергали отлучению римские папы.
Да, прославленные властители умов, на чьи представления съезжалась избранная публика из всех цивилизованных стран и земель, могли во многом позавидовать шутам. С тех пор, как при «Короле-Солнце» Людовике XIV праху Мольера отказали в последней чести – в церковном погребении, духовенство отнюдь не стало терпимее. Актёры всё ещё оставались отлучёнными от церкви, а это значит, что их браки не считались законными, равно как и потомство, имеющее от такого брака появиться. Их запрещено было хоронить на кладбищах, если перед смертью они не раскаются в своём ремесле, как в пагубной ереси.
Но и это ещё не всё. За актёрами не признавали даже права заказать панихиду по любимому драматургу. В памяти публики был ещё свеж примечательный случай, когда какой-то священник осмелился отслужить заупокойную мессу по Кребийону, крупнейшему в XVIII веке сочинителю трагедий. Тогда архиепископ парижский, придя в сильнейшее раздражение, сурово наказал добросердечного пастыря. Тут уже не на шутку разгневались и доселе безропотные комедианты Его величества: предводительствуемые Ипполитой Клерон, они собрались прекратить спектакли в столице. Тогда на помощь властям церковным без промедления подоспели светские, и актрисе, игравшей цариц, пригрозили «Бастилией для лицедеев» – тюрьмой Фор-Левек, где содержались неисправимые должники, а также актёры, нарушившие театральные порядки или правила благочиния.
Следует отметить, что актёров королевского театра всё-таки ставили выше простых бродяг, но ниже сочинителей, для которых считалась уместной Бастилия. В Фор-Левек могли упрятать – и упрятывали – даже таких знаменитостей, как Лекен, Моле и сама Клерон. Для этого было достаточно приказа одного из четверых особых королевских суперинтендантов, которым было поручено попечительство над театром. Ни слава, ни заслуги, ни даже расположение двора не служили актёрам гарантией от их произвола.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
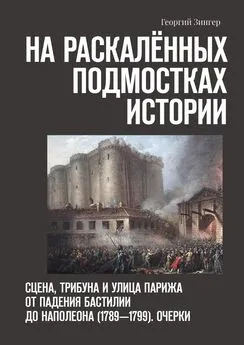
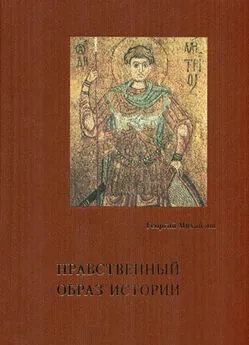

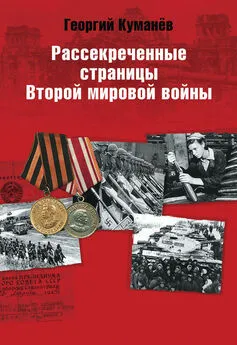


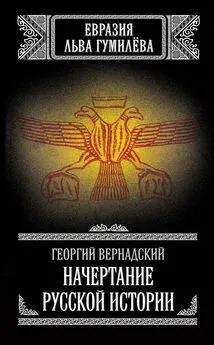
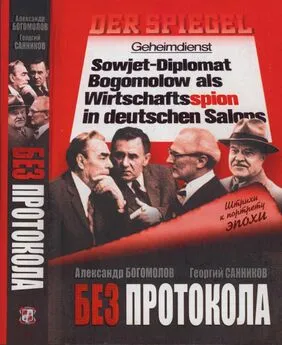
![Георгий Вернадский - Начертание русской истории [litres]](/books/1081585/georgij-vernadskij-nachertanie-russkoj-istorii-lit.webp)