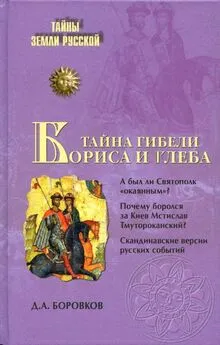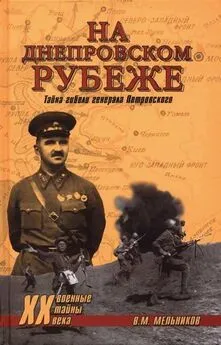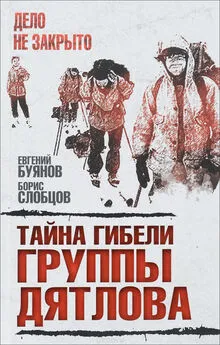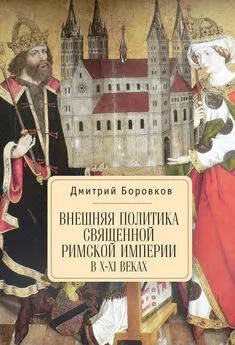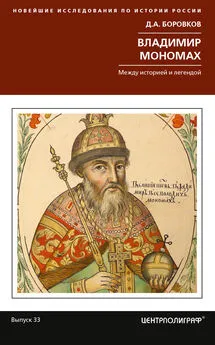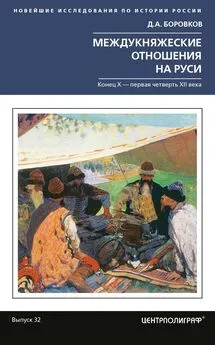Дмитрий Боровков - Тайна гибели Бориса и Глеба
- Название:Тайна гибели Бориса и Глеба
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9533-3631-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Боровков - Тайна гибели Бориса и Глеба краткое содержание
Среди загадок русской истории особое место занимает тайна гибели двух сыновей крестителя Руси Владимира Святославича — Бориса и Глеба, убитых по приказу старшего брата Святополка, получившего в древнерусской литературе прозвище Окаянный. После изгнания Святополка началось почитание князей в княжеском роду. Память обоих страдальцев осталась для России священною. Русские люди, и преимущественно княжеский род, видели в них своих заступников и молитвенников. Летописи содержат много рассказов о чудесах исцеления, происходивших у их гроба, о победах, одержанных их именем и с их помощью, о паломничестве князей к их гробу, и т. д.
Сохранившиеся исторические свидетельства о гибели двух князей порождают круг непростых вопросов. На них отвечает в своей книге историк Д. А. Боровков.
Тайна гибели Бориса и Глеба - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как ни кощунственно это звучит, в данном случае «святой» являлся бы «братоубийцей», и его устранение Ярославом с теоретической точки зрения было бы оправданно. Однако подобная перспектива делала бессмысленным создание вокруг потенциального инициатора династического конфликта мученического ореола — неважно, было ли это делом самого Ярослава или его преемников, — поскольку Борисоглебский культ должен был предотвращать повторение аналогичных эксцессов в княжеском роду. Тем более не было необходимости «списывать» все убийства на Святополка. «Почему сыновьям Ярослава в 1072 г. пришло в голову одного из врагов своего отца причислить к лику святых, а второго объявить его убийцей, никто не объясняет. Если Святополка в июле 1015 г. уже не было в Киеве, а война с Борисом затянулась до 1017 г., то, во-первых, не было смысла выставлять его невинной жертвой, а во-вторых, его убийство было бы проще отнести ко времени после битвы на Буге в 1018 г., когда Святополк заведомо находился у власти» (Н. И. Милютенко) {408} 408 Милютенко 2006. С. 127–128.
. Таким образом, реконструкция подобного рода с идеологической точки зрения в корне противоречит одной из фундаментальных основ древнерусской культуры.
Одно из наиболее уязвимых мест «Пряди об Эймунде» как исторического источника является датировка описанных в ней событий. В ней нет дат, поэтому установить точное их время можно лишь на основании внутренних указаний текста, сопоставленных с другими источниками: ПВЛ, «Кругом земным» и хронологически зависимыми от него исландскими анналами. Внутренними указаниями «Пряди об Эймунде» являются: сообщение об объединении Норвегии Олавом Харальдсоном (которое позволяет определить дату изгнания Эймунда), свидетельство о том, что к моменту появления Эймунда на Руси Ярослав был женат на Ингигерд, рассказ о войне между Киевом и Полоцком: эти события, упоминаемые «Прядью», являются отправной точкой для построения ее хронологической координаты.
Как говорилось выше, во второй четверти XX в. господствовала тенденция к корреляции хронологии «Пряди» с хронологией ПВЛ, вследствие чего первые исследователи полагали, что «Эймундова сага» рассказывает о событиях 1016–1021 гг. После появления концепции Н. Н. Ильина распространилось мнение, что сага повествует о событиях 1015–1021 гг. Однако, если допустить, что заключительные события саги в общих чертах напоминают летописный рассказ о разделе власти между Ярославом и Мстиславом Тмутороканским, можно относить описанные в ней события к 1015–1026 гг. Ситуация осложняется существованием нескольких датировок как объединения Норвегии (между 1014–1016 гг.), так и женитьбы Ярослава на Ингигерд (между 1014–1016 и 1019–1020 гг.).
Последователи Н. Н. Ильина, как правило, выступают за ранние датировки, в то время как «традиционалисты» настаивают на поздних датах. Ключевым в этом «хронологическом треугольнике» является вопрос о том, когда именно дружина Эймунда прибыла на Русь. Как известно, в войне за наследство Владимира Святополк и Мстислав пользовались поддержкой степных кочевников, тогда как скандинавы были постоянными партнерами Ярослава Мудрого. Вследствие этого в начале его политической деятельности регулярно происходили «призвания варягов». Если верить ПВЛ, первое из них имело место в 1014 г. накануне смерти Владимира, хотя, учитывая сюжетную общность статей 1014 и 1015 гг., оно произошло, вероятно, в конце весны или начале лета 1015 г. Поскольку «Прядь» свидетельствует о том, что в момент смерти Владимира Эймунд все еще находился в Норвегии, значит, попасть на Русь он мог не ранее осени 1015 г. — возможно, уже после того, как восставшие новгородцы перебили ранее прибывших варягов «на Поромоне дворе».
Тем более нет достаточных оснований, чтобы отождествлять отряд Эймунда с тем скандинавским контингентом, с помощью которого Ярослав надеялся обороняться от своего отца: не только потому, что его дружина насчитывала всего 600 человек, хотя даже после трагедии на «на Поромоне дворе» он, по свидетельству НIЛМ, сумел выставить против Святополка 1000 варягов, но и потому, что скандинавские саги упоминают о присутствии в это время на Руси по крайней мере двух крупных варяжских отрядов — шведского ярла Рёгнвальда Ульвссона, родственника княгини Ингигерд, и норвежского ярла Свейна Хаконарсона, ставшего еще одной жертвой репрессивной политики Олава Харальдсона {409} 409 Джаксон 1994. С. 43, 51, 71, 73–75 и др.
, а значит, наемный контингент мог быть сформирован в несколько этапов.
Некоторые исследователи вообще сомневались в том, что варяги играли сколько-нибудь значимую для новгородского князя роль в войне за «киевское наследство». Как считал, например, В. Т. Пашуто: «Новая вспышка борьбы за власть над Киевом при Ярославе Мудром сопровождалась непродолжительным возрождением роли норманского корпуса в Новгороде. Но и здесь вновь видна его подчиненная роль; стоило варягам вступить в конфликт с местной знатью (своевольно задеть честь „мужатых жен“), как все они были перебиты, видимо, в их гриднице — на Паромоновом дворе. Хотя Ярослав Владимирович и снес головы самовольным новгородцам, но все же в поход на юг (1015 г.) он выступил, имея рать, где новгородцев было 3000, а варягов только 1000» {410} 410 Пашуто 1968. С. 26–27.
.
Существует гипотеза, согласно которой Эймунд с дружиной появился на Руси лишь в 1018 г., когда Ярослав вновь призвал в Новгород варягов после поражения на Буге. В данном случае центр тяжести приходится на датировку брака Ярослава и Ингигерд, которая на основании хронологии исландских анналов и последовательности событий, описанных в «Круге Земном», относится к февралю 1019 г. {411} 411 Джаксон 2000. С. 59–65. Назаренко 2001. С. 494–496. Мельникова 2008. С. 98–100.
В последнее время получило распространение мнение о том, что это был второй брак Ярослава, так как предполагается, что первая его жена (отождествляемая с княгиней Анной, погребенной в некрополе новгородского Софийского собора) была захвачена в плен при взятии Киева в 1018 г. (о чем сообщает Титмар Мерзебургский) и умерла во время переговоров о ее освобождении (А. В. Назаренко) {412} 412 Назаренко 2001. С. 490–491.
. Таким образом, Эймунд находился на службе Ярослава либо в 1015–1018, либо в 1018–1021 гг., однако и в том и в другом случае он вряд ли мог быть убийцей Бориса, если принимать во внимание, что гибель его относится древнерусской традицией к 24 июля 1015 г.
3.3 Между эпосом и историей. «Образ правителя» как стереотип средневекового историописания
Противники концепции Н. Н. Ильина, как правило, упрекают ее в некритическом отношении к «сырому материалу» «Эймундовой саги», рассматривая ее прежде всего как литературное произведение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: