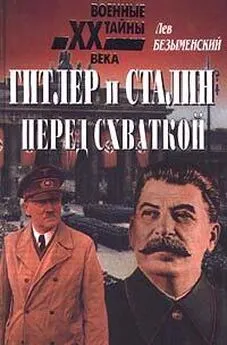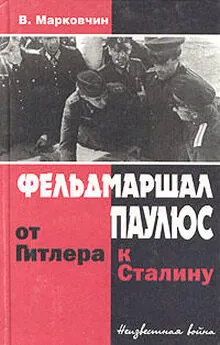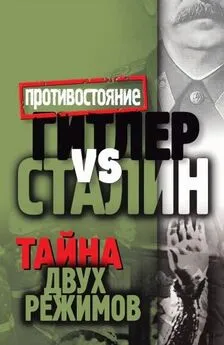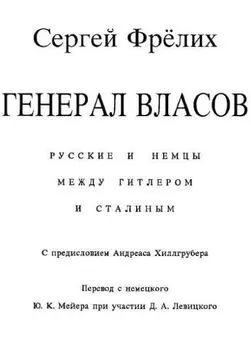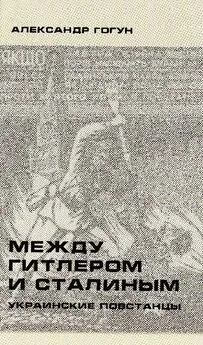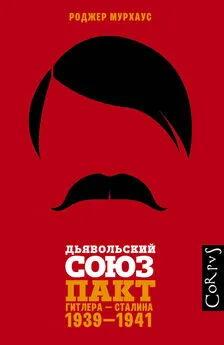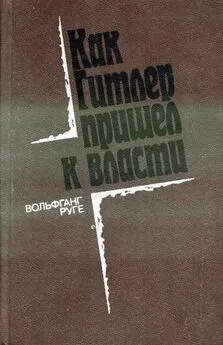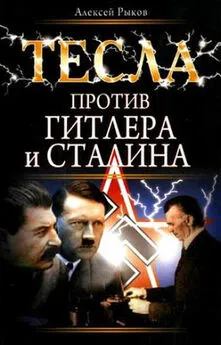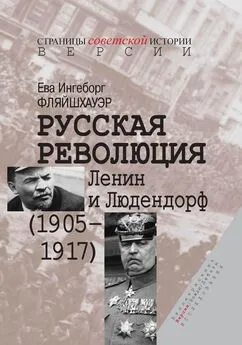Ингеборг Фляйшхауэр - Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939
- Название:Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ингеборг Фляйшхауэр - Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939 краткое содержание
Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К тому же советская сторона справедливо опасалась, что трудновыполнимые с военной точки зрения западные гарантии могут даже способствовать возникновению войны в непосредственной близости от Советского Союза [447]. К такому пониманию склонялась также часть английской оппозиции, например бывший премьер-министр Великобритании Д. Ллойд Джордж, назвавший британские гарантии Польше и Румынии без соответствующего советского прикрытия с тыла «безответственной азартной игрой» [448]. Он считал больше невозможным игнорировать Советский Союз; пути, удобные для оказания эффективной военной помощи Польше, пролегали как раз через советскую территорию. «Англия нуждалась по меньшей мере в благосклонном нейтралитете Советского Союза, а еще лучше в его поддержке Польше в случае нападения» [449]. Ключ к эффективному гарантийному союзу, как подчеркнул Черчилль, лежал во взаимопонимании Запада и России [450].
Однако такого взаимопонимания в процессе подготовки поспешного английского заявления о гарантиях Польше никто не искал. Хотя в англо-польском коммюнике от 6 апреля шла речь о том, что Англия и Польша окажут друг другу помощь в случае прямой или косвенной угрозы независимости одной из них со стороны третьей страны, остался, однако, открытым вопрос о практических путях осуществления помощи.
Советское правительство в этой ситуации сделало для себя выводы. При отсутствии возможности создать коллективный фронт сдерживания дальнейшей германской экспансии оно стремилось своими силами обеспечить защиту ближайших подступов [451]. При этом Советское правительство различало сопредельные государства первого и второго стратегического ранга — приоритетная очередность, зависящая, очевидно, во-первых, от интересов военной безопасности и, во-вторых, от исторических и политических факторов.
К сопредельным государствам первого ранга относились страны Прибалтики, за которыми Советский Союз при любых обстоятельствах намеревался сохранить роль буферной зоны. Они должны были в отсутствие эффективной системы пактов на основе двусторонних соглашений защитить СССР от германского продвижения. Советское правительство пыталось достичь этого дипломатическими средствами, договариваясь о законном приобретении некоторых территорий (вспомним, например, предложение Литвинова Финляндии относительно передачи или аренды стратегически важных финских островов; при этом Советское правительство было даже готово обменять их на часть Карелии) [452], или угрозами (например, с помощью резких нот Литвинова Латвии и Эстонии от 28 марта, в которых говорилось о том, что СССР не потерпит дальнейшего усиления влияния Германии в этих странах) [453]. Эти ноты, по мнению соответствующих правительств, носили характер непрошеных односторонних заявлений о гарантиях [454].
К сопредельным государствам второго ранга относились страны, на нейтралитете которых Советское правительство было готово не настаивать, если заявления о помощи этим странам угрожали бы втянуть СССР в международный конфликт. Это касалось Польши и Румынии. В те дни Советское правительство не уставало открыто повторять, что этим странам оно никакой военной помощи не обещало [455]. Однако это не препятствовало тому, что в процессе дальнейшего обострения кризиса Советский Союз старался дипломатическим путем приблизить к себе эти страны [456]. В основе неоднократного провозглашения ни к чему не обязывающего нейтралитета, без сомнения и в первую очередь, лежали тактические соображения: не дать Англии и Франции путем интриг вовлечь СССР в какой-нибудь конфликт из-за этих стран. Ответить на вопрос о том, не проявилось ли здесь временное отсутствие стратегического интереса к этим странам, не ознакомившись с соответствующими советскими документами, нельзя [457].
Формальная причина, которой Советское правительство объясняло собственную сдержанность (Польша и Румыния якобы не желали советской помощи), была, во всяком случае, не главной, ведь Прибалтийские государства отказывались от такой помощи не менее упорно, чем Румыния и Польша, и тем не менее были облагодетельствованы гарантиями.
Такой неравный подход к сопредельным государствам определялся, помимо прочего, реалистической оценкой собственных военных возможностей [458]. В этом отношении Сталин, несомненно, превосходил своего английского коллегу. Между обусловленными моралью и порядочностью трагическими политическими ошибками Чемберлена (этого «миссионера, попавшего к людоедам» [459]) и жестокими, но в политическом отношении более реальными и верными решениями Сталина лежит целая пропасть, которой мы здесь не будем касаться.
В созданной западными декларациями о гарантиях новой ситуации Гитлер увидел возможность, даже необходимость искать советского расположения, чтобы изолировать Польшу с тыла, а затем (перед взорами нейтрального Сталина или даже при советской поддержке) разгромить ее.
В министерстве иностранных дел и в германском посольстве в Москве хорошо понимали сложившуюся ситуацию. И если силы, стремящиеся сблизить Германию с СССР, несмотря на очевидные опасности, и далее развивали свои дипломатические инициативы, то в последующие месяцы все отчетливее становились принципиальные различия их мотивов: «псевдобисмаркианцы» в министерстве иностранных дел надеялись, что, расчищая Гитлеру этот путь «наименьшего зла», они таким образом уберегут Германию от катастрофы; с другой стороны, Шуленбург и его ближайшие коллеги, по словам Кёстринга, «добиваясь германо-русского сближения, не выбирали между «меньшим» и «большим» злом, а старались вообще не допустить «зла», то есть войны» [460].
Первые серьезные размышления и дискуссии на данную тему возникли после окончательного отказа Польши (26 марта); после заявления Чемберлена в палате общин (31 марта 1939 г.) они распространились на непосредственное окружение Гитлера и в первые дни подготовки к осуществлению плана «Вайс» привели к решению начать контакты с Советами. Все это время с небольшими перерывами посол Шуленбург провел в Берлине. Насколько ему тогда удалось привлечь внимание к своим доводам, сказать невозможно из-за отсутствия письменных свидетельств. К тому же весной 1939 г. в министерстве иностранных дел даже среди единомышленников соблюдалась строжайшая тайна. «Слежка» в служебных помещениях была обычным делом. Социальные контакты сотрудников прекратились под воздействием «удушливой атмосферы лицемерия и недоверия». Проникновение гестапо «под спокойную поверхность» личной жизни не ускользнуло от их внимания [461].
В конце марта 1939 г. германское посольство в Москве получило первое письменное подтверждение изменения настроений в некоторых военных ведомствах. 29 марта генерал Типпельскирх, представитель верховного командования вермахта, запросил военного атташе в Москве Кёстринга, не считает ли он, что Сталин «мог бы (действовать) иначе», то есть заодно с Германией [462]. Кёстринг понял смысл запроса генерального штаба сухопутных войск. Он ответил отрицательно: «В настоящий момент в это не поверит сам Сталин». В лучшем случае он мог бы «заставить поверить... других ». Правда, Кёстринг признал, что многие государства «усиленно интересуются Россией», но что именно «перед самым опасным противником, Германией», страх здесь особенно велик. И воевать-де Советский Союз не станет, во всяком случае, в начале крупного столкновения. «С какой стати? — писал он. — Разве на месте Сталина вы поступили бы иначе?» Информация военных специалистов была однозначной: в военный и тем более в наступательный союз с Гитлером Сталин в силу очевидных собственных интересов втянуть себя не позволит.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: