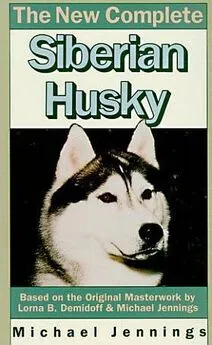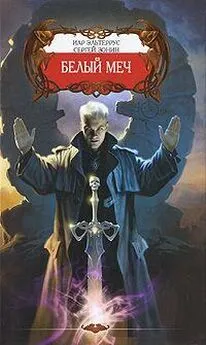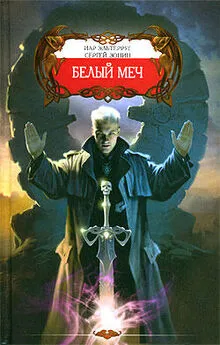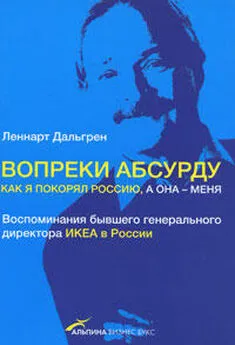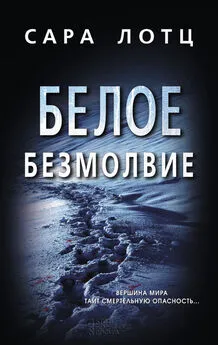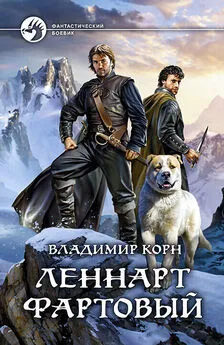Леннарт Мери - Мост в белое безмолвие
- Название:Мост в белое безмолвие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леннарт Мери - Мост в белое безмолвие краткое содержание
Мост в белое безмолвие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
РУССО НА ЧУКОТКЕ
До Врангеля здесь побывала экспедиция Биллингса. Русские авторы назвали ее несчастливой, таковой она и была на самом деле. "По всей видимости, дух Кука не витал над его давним спутником", - записал в своей книге секретарь экспедиции Мартин Сауэр. В свое время Иосиф Биллингс служил у Джемса Кука судовым офицером и астрономом, дважды побывал в Беринговом проливе и в Чукотском море; это Екатерина II призвала его на службу Российскому государству и, как только до Петербурга дошла весть, что Лаперуз отправился к Тихому океану, тут же спровадила на Дальний Восток. Биллингсу было поручено определить точное местоположение Колымы, открыть земли, которые, как предполагалось, расположены против ее устья, исследовать северное побережье Чукотки, а затем, проплыв через Охотск в Тихий океан, посетить Алеутские острова, Америку и Японию. Дел, как видим, было предостаточно. Корабли, необходимые для такого похода, должен был построить он сам. Экспедиция выполнила лишь мизерную часть возложенных на нее задач и закончилась бы еще более плачевно, если бы в ее составе не было молодого Сарычева, первоклассного моряка, будущего адмирала, однако и он не сумел побороть мрачную самоуверенность англичанина. Астроном Биллингс оказался бездарным руководителем, но человек он был не робкого десятка. Вместе с обозом кочевых чукчей он совершил исключительное для своего времени путешествие от Берингова пролива на побережье Колымы. Никто этого от него не ожидал и ожидать не мог. Географическая ценность этого опасного для жизни {161} марафона была незначительна. Но участники экспедиции привезли богатый этнографический материал и зарисовки, которые в большинстве своем позднее, увы, таинственным образом исчезли. Вообще будто какой-то злой рок преследует документы, рассказывающие об открытии Сибири: то они сгорают, то их теряют или забывают под банками с вареньем, откуда их извлекают только через несколько сотен лет, и когда они наконец попадают в печать, то в блеске их неожиданного появления на свет божий стушевывается само географическое открытие, поблекнув за давностью лет.
Но у капитана Биллингса был секретарь по имени Мартин Сауэр. Подобно тому как Кук оправдал свое имя в роли кока, так Сауэр оправдал свое имя в роли секретаря, а еще больше - в качестве автора книги путешествий, которая и в самом деле написана с кислой миной и весьма ироническим пером. Этот невысокого роста, апоплексического вида господин с красным носом легко и бурно обижался и так же быстро отходил, но, в отличие от большинства путешественников, его чувства так же откровенно и с такой же скоростью, как в жизни, пылали и охлаждались на страницах дневника. Малоизвестное сочинение Сауэра во многом является незаменимым источником. Например, большинство составителей энциклопедий с удивительной точностью называют 1768 год, когда была убита последняя стеллерова морская корова. Эта дата названа господином Сауэром в его книге. Может быть, его следовало бы считать основоположником науки об охране природы в ее современном виде. А какая великолепная деловитость скрыта в нижеследующем описании деловитость, убедительнее всяких восклицательных знаков дающая представление о невероятных трудностях и испытаниях, которым подвергались первопроходцы, и о тех, кто эти трудности преодолевал. Кроме древесины, все строительные материалы для кораблей Биллингса везли из Иркутска. До Охотска это примерно 3200 километров, до Нижнеколымска - 3900. А помимо строительных материалов - пятилетний запас продовольствия, свечей, мыла и водки на триста человек. Все это упаковывали в Иркутске в ящики по сорок килограммов каждый, зашивали их в полотно, которое потом смолили, чтобы оно стало водонепроницаемым, после чего ящики зашивали еще раз, только теперь уже в юфть, из которой на месте назначения шили сапоги для команды... Чтобы перевезти {162} полуторагодовую норму припасов на сто человек, находящихся в Нижнеколымске, понадобилось две тысячи возов, а в Охотске людей было в два с половиной раза больше. Но это еще не все. Дорога была, мягко говоря, трудной. Нередко лошадь выдерживала только один конец. Поэтому у каждого ямщика кроме шести лошадей в упряжке было еще по две запасных, сверх того верховой конь. Семь тысяч возов - это значит: больше десяти тысяч лошадей! "Лошадь в один конец" - для эстонского крестьянина такое звучит невероятно, и Сауэр беспокоится, что больше двух тысяч лошадей нет уже ни у кого. Как известно, якуты всегда были (а отчасти остались и сейчас) коневодами, представителями далекой степной культуры в Ближней Арктике, и конный обоз, растянувшийся без конца и края, для этих широт так же типичен, как верблюжий караван в Аравийской пустыне. Несмотря на это, исследовательские экспедиции явились для якутов обузой непосильной. Добавим, что одно из самых ярких описаний гужевой повинности времен Витуса Беринга более полувека провалялось в Пылтсамааском дворце и было опубликовано в Тарту только в 1930 году.
Из Охотска в Нижнеколымск - около тысячи пятисот километров - Сауэр проехал верхом на северном олене, в сопровождении корабельного плотника и тунгусов, которых мы теперь называем эвенками. У тунгусского седла нет стремян, и помещается оно между лопатками оленя. Тунгус перекидывает левую ногу через седло, одновременно опираясь правой рукой на луку и с размаху вскакивает в седло. Во время езды тунгусы подбирают скрюченные ноги под себя - фокус, которому корабельный плотник так и не сумел научиться, в результате чего большую часть пути ему пришлось бежать за оленем. Поводья заменял длинный ремень, один конец которого был привязан к оленю, а другой - к господину Сауэру: иначе стоило только седоку упасть, олень тотчас просто-напросто убежал бы. А господин Сауэр падал! "За время трехчасовой езды по меньшей мере раз двадцать..." - писал он. Тем более неожиданно звучит признание Сауэра: этому смешному, сентиментальному человечку, у которого под полосатым жилетом и цепочкой от часов билось справедливое сердце, жалко расставаться с эвенками! "Я был очарован мужеством, деловитой расторопностью и внутренней уравновешенностью наших проводников, той достойной восхищения стойкостью, которая питает самые {163} светлые чувства души и помогает людям преодолеть трудности, пока они не достигнут цели своих устремлений; эти вольные дети природы пробудили во мне горячее желание делить с ними опасности и радости их жизни. Первозданное романтическое уединение, столь часто окружавшее нас в сиих местах, возвысило мою душу постижением и непреклонным убеждением, что человек венец природы. Жители же больших городов, от всего зависимые и вынужденные служить роскоши и комфорту аристократов и богачей, унизившихся до еще большей зависимости, казалось, томятся в самом низменном и унизительном рабстве, в которое культура может ввергнуть человека, в рабстве, которое задушило доброту сердца и погребло вместе с ней все источники социального удовлетворения".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: