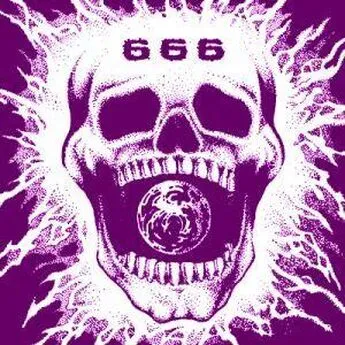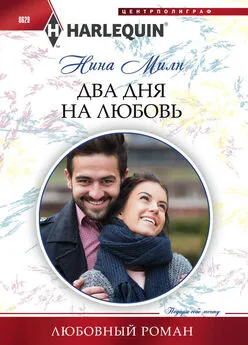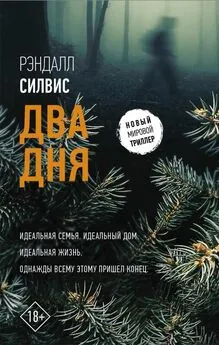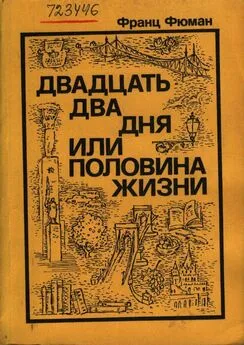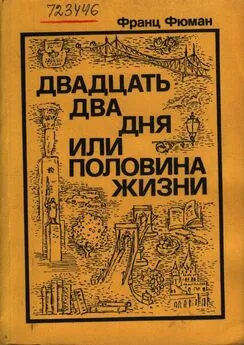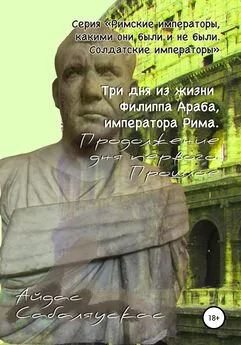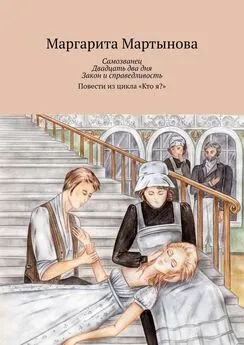Александр Каждан - Два дня из жизни Константинополя
- Название:Два дня из жизни Константинополя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2002
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-89329-463-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Каждан - Два дня из жизни Константинополя краткое содержание
Эта книга, написанная в конце 70-х гг. XX века, нисколько не потеряла своей актуальности и интереса. Она публикуется сейчас впервые, поскольку ее автор эмигрировал в 1978 г. в США, и все сданные им в печать рукописи, естественно, тут же были отвергнуты издательствами. Книга носит популярный характер, рассчитана на самые широкие круги любителей истории и тем не менее основана на многочисленных и глубоких исследованиях автора. В ней присутствует занимательный исторический сюжет, основанный на сообщениях византийского историка XII века Никиты Хониата, но сюжет этот отнюдь не главное, а скорее средство и рамка для рассуждений и любопытных наблюдений над бытом и нравами византийцев.
Книга — широкая панорама жизни Византии, увиденная глазами А. П. Каждана.
Издание подготовлено при участии А. А. Чекаловой. Подбор иллюстраций В. Н. Залесской (Государственный Эрмитаж).
Два дня из жизни Константинополя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иногда кажется, что величие Византии вообще и величие византийской культуры в частности, ее особая роль в средневековом мире обусловлены сохранением здесь античных порядков, античной образованности, античных культурных традиций. Спору нет, античные традиции жили в Византийской империи — здесь учились по античным руководствам и преклонялись перед античными образцами. И не раз, видимо, византийский художник чувствовал себя подавленным мастерством и славой своих древнегреческих предшественников.
Но как архитектурные детали античных построек механически вплетались в тело новых строений, как фрагменты из древних классиков использовались византийскими поэтами для создания сочинений на евангельские сюжеты, так точно подражания античным образам вошли в византийское изобразительное искусство вне античных функциональных связей. Интерес к античности становится в Византии страстью во второй половине IX–X вв. Он выражается в массовом переписывании древних рукописей, в составлении комментариев и сборников древних сочинений, в копировании древних (чаще, может быть, архаических, нежели классических) человеческих изображений. Не без оснований некоторые искусствоведы считают, что Богоматерь из алтарной конхи храма Св. Софии напоминает величественную Геру или Афину — если бы только Афина могла стать матерью! Но все это — не более чем подобие, чем подражание: античность прославляла гармоническое единство земного бытия — византийское искусство исходило из противоречия между земным и небесным, реальностью и мифом, историей и вечностью, переживаемым и мечтой. Связь с античностью была здесь не сущностной, а формальной, и потому — мало продуктивной.
Иногда, напротив, византийское искусство выводят из византийского богословия. В самом деле, искусство в какой-то степени сливалось здесь с богослужением, и более того, оно было порождением той же самой общественной структуры. Это значит, что перед богословием и перед искусством стояли те же задачи, те же проблемы, важнейшими среди которых были противоречивость бытия и непознаваемость вечности, или Бога. Проблемы были те же, но методы их решения совершенно различными, можно сказать противоположными. Византийские мыслители последовательно развивали принципы апофатического («отрицательного») богословия, сущность которого состояла в отрицании возможности определить Бога через его качества — Бог мыслился непознаваемой, невыразимой, неопределимой сущностью, и казалось бы, именно иконоборческие принципы отвечали идеям апофатического богословия. Но византийские художники изображали Бога, создавали его икону — образ-подобие, пусть не тождественное прообразу, но сопричастное ему: недаром Иоанн Дамаскин сравнивал соотношение образа и архетипа с соотношением Бога Сына и Бога Отца. Искусство начиналось там, где останавливалось богословие, иначе говоря, оно не вытекало из богословия, но было параллельным ему явлением византийской культурной жизни. В последние десятилетия все настойчивее подчеркивается мысль о тесной связи византийского искусства с государственной религией империи — с императорским культом. Связь этих двух феноменов и, соответственно, официальность византийского искусства — несомненны. Государство поощряло зрелищность, использовало изобразительное искусство и литературу для прямой политической пропаганды (официальные речи, плакаты) и шире — для пропаганды обобщенной, для прославления божественного порядка и божественности земных порядков. Государство давало средства для сооружения храмов, для украшения их, и обеднение византийского государства после 1204 г. очень заметно выразилось в замене дорогой мозаичной техники более дешевыми фресками при строительстве столичных церквей. И все-таки византийское искусство, византийское художественное творчество не сводимо только к пропаганде идеи государственного единства, как не сводимо оно к пропаганде теологической идеи — пусть самого возвышенного свойства.
Византийское художественное творчество не только отражало противоречивость бытия, но и само было внутренне противоречивым, амбивалентным. Византийские художники ощущали себя частицей величественной империи, избранного народа, наследниками эллинской цивилизации и римской государственности. Их творчество, парадное великолепие их храмов и мозаик, пышная игра риторики, торжественность церемоний — все это знаменовало богатство и всевластие константинопольских императоров. А вместе с тем они создавали особый мир — не мир, прямо отражающий действительность, но «дубликат» реального мира, построенный из земных элементов и вместе с тем отрицающий земные отношения. Играя словами, можно было бы сказать, что византийское искусство — до какой-то степени апофатическое искусство. Его торжественность, благолепие, рефлективность есть до известных пределов отражение-отрицание социальной неустойчивости византийского общества.
Никогда византийская общественная мысль не поднималась до требования социального переустройства мира. Она видела общественные пороки, но объясняла их причинами личными или случайными. Только искусство создало мир, принципиально отличный от действительного, мир, где царила упорядоченность и где человек, освобожденный в духе, беседовал как равный с Божеством. Мир искусства был в этом смысле подобием мира мистики: ведь и мистик, не претендуя на переустройство социальной действительности, возносился чувством к Богу, вырывался из земных связей и ставил себя в силу этого выше царей и вельмож.
Византийское искусство антропоморфно. Оно коренным образом отличается от искусства мусульманского мира, которое не оставляло места для человека. Конечно, герой византийских художников иной, нежели человек античной скульптуры или ренессансной живописи. И это понятно, ибо классическая Греция и ренессансная Италия жили горделивой иллюзией обретенного рая, тогда как византийский «рай» существовал лишь как дубликат действительности. Античность и Ренессанс могли подражать действительности, Византия и восхваляла действительность, и отвергала ее.
Человек вообще стоит в центре византийской системы мировоззрения. Он — микрокосм, крошечное подобие вселенной, сочетающее в себе основные начала мироздания — плоть и душу. Для него Бог создал землю и населил ее животными. Для него плодоносит нива и виноградник приносит свой благоухающий сок. Человек живет в центре вселенной, солнце и звезды совершают вокруг него свой ежедневный бег. Ради человека Бог посылает собственного Сына на землю, облекает Его человеческой плотью и обрекает испить горькую чашу страданий. Человеческие образы питают византийское искусство — от купола храма с его антропоморфным Пантократором и ангелами, от Богородицы с младенцем до изображений ктиторов, основателей и украсителей храма. Иконоборческая попытка лишить византийский храм человеческих изображений, доведя тем самым рефлективность богослужения до предела, оказалась столь же бесплодной, как и попытка драматизировать литургию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: