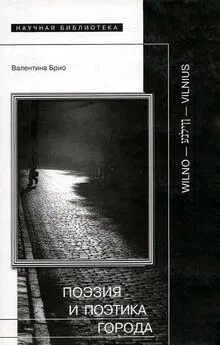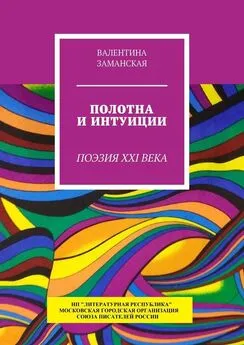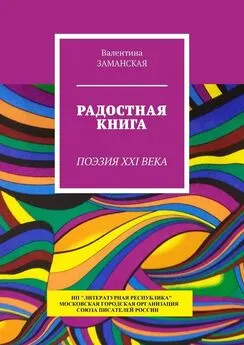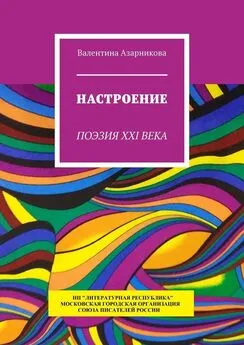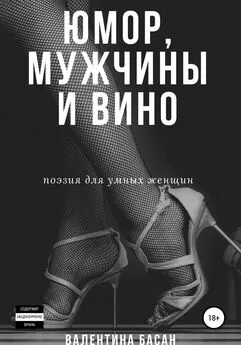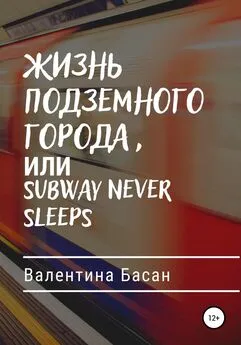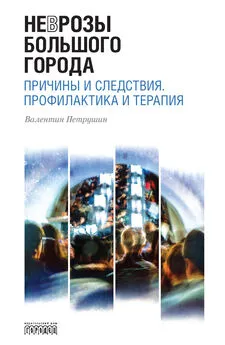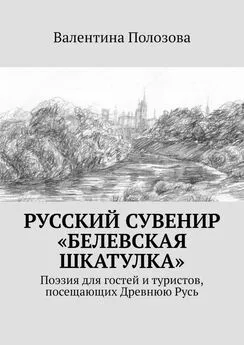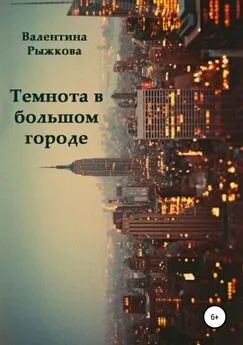Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
- Название:Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-613-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius краткое содержание
Сосуществование в Вильно (Вильнюсе) на протяжении веков нескольких культур сделало этот город ярко индивидуальным, своеобразным феноменом. Это разнообразие уходит корнями в историческое прошлое, к Великому Княжеству Литовскому, столицей которого этот город являлся.
Книга посвящена воплощению образа Вильно в литературах (в поэзии прежде всего) трех основных его культурных традиций: польской, еврейской, литовской XIX–XX вв. Значительная часть литературного материала представлена на русском языке впервые. Особенная духовная аура города определила новый взгляд на его сложное и противоречивое литературное пространство.
Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В 1930 г. состоялся новый конкурс, в котором победил проект проф. Хенрика Куны (Henryk Kuna, 1885–1945): шестиметровая статуя на одиннадцатиметровом цоколе, покрытом панелями с барельефами сцен из «Дзадов». Мицкевича скульптор изваял с книгой в левой руке, а правой — прикрывшим глаза. Этот проект также дал повод виленчанам для вышучивания и критики, даже грубых личных нападок на скульптора. Константы Ильдефонс Галчиньский так описал статую для памятника в стихотворном фельетоне:
Stoi biedny Adam
со dzień coraz bliadszy,
rączką się zasłania
i na księżyc patrzy [120].
Стоит Адам бедный,
Дни идут — все бледный,
Ручкой заслоняется,
На луну взирает.
Спор о памятнике Мицкевичу довольно скоро вышел за рамки бурной полемики в печати. В течение нескольких месяцев 1934 г. дело дошло до судов чести, разрыва дружеских и деловых связей между людьми, и даже до дуэли (хотя и не без элемента театральности) между двумя известными в городе литераторами. Спор о памятнике вылился, как отмечает исследователь Ежи Оссовский, в «одно из важнейших общественно-бытовых событий того времени… и явился отражением политической, общественной и экзистенциальной нестабильности 1930-х годов» [121].
Планировалось поместить памятник в центре, на площади Элизы Ожешко: угол улиц Мицкевича (позднее — Gedimino) и Виленской (в советское время площадь генерала Черняховского; ныне площадь Savivaldybos — Самоуправления). Подготовительные работы тянулись до 1939 г., когда выяснилось, что близость грунтовых вод не позволяет установить в этом месте сооружение значительного веса. Статуя должна была отливаться в этом же году в Варшаве. Началась война. Деревянный макет памятника погиб во время бомбежки в сентябре 1939 г., однако часть гранитных панелей сохранилась [122].
Сюжет завершился уже в другую эпоху и — в силу исторических обстоятельств — в другой стране. Памятник Мицкевичу был установлен в столице Литвы Вильнюсе в 1984 г., в красивейшем уголке Старого города. Мицкевич литовского скульптора Гедиминаса Якубониса — молодой, романтический, каким помнят его эти места. И этот Мицкевич оказался в центре важных исторических событий (конечно, не случайно) — с 1988 г. именно небольшая площадь, на которой установлена статуя, стала местом собраний литовского национального союза «Саюдис», возглавившего общее движение, которое очень скоро привело к независимости Литвы [123]. А в 1996 г. вблизи памятника установлены и 6 панелей с барельефами Куны.
Легенда Мицкевича была живой и остается таковой (прежде всего в польской литературной традиции, о которой здесь речь). Она как бы независимо живет своей жизнью и генерирует в последующие годы свое продолжение: «Вильно имеет в Польше свою легенду не только выводимую из романтизма. Можно слышать, что ни в каком другом месте не образовалась в 1918–1939 гг. столь творческая, столь богатая талантами и энергией среда» [124].
К этой среде и к этому времени многократно возвращался в своей прозе и стихах Чеслав Милош.
Филоматы и филареты, университетская молодежь начала XIX века — неотъемлемая составляющая города Вильно, который без них немыслим: они в значительной мере создавали его атмосферу, собственный облик, возвышали его — до науки, до искусства, до своих молодых благородных мечтаний. Они создавали традицию, а затем сами стали легендой. Университет преодолевал провинциальность Вильно и делал его европейским городом. Представляется закономерным то, что студенческая жизнь в начале XX века складывалась почти в точности по филоматской модели (тесно связанной, конечно, и с широкой европейской традицией). Об этом размышлял Милош: «Нашей молодостью в Вильно, независимо от разных глупостей, свойственных возрасту, я должен гордиться. Не обязательно учебой, закончившейся только дипломом магистра права. Прочитанные тогда книжки, лекции — не правоведческие — дали мне гораздо больше, чем теория прямых и косвенных налогов…
Причиной гордости может быть и Клуб, и STO [Stowarzyszenie Twórczości Oryginalnej], и группы, и дружбы, или все то, что меня, пожалуй, эгоистичного и задиристого, отрывало от самого себя. Без прохождения этого опыта некоторые известные явления культуры остались бы мне непонятными, а именно таверна XVI века в Лондоне, в которой Марло с товарищами пили и читали стихи, французская „Плеяда“ или виленские филоматы. Всякое творчество возникает из союза или из столкновения духа с духом, порою это союзы и столкновения скрытые, трудные для расшифровки, порою простые» [125].
Но и сам по себе университет, его старая архитектура, местоположение отзывались в чутких душах разных людей. Художник Мстислав Добужинский, позднее изобразивший Вильно на многих своих полотнах, вспоминал о своих гимназических годах в этом городе, пришедшихся на начало 1890-х:
«Вторая гимназия, куда я поступил, находилась на узенькой, очень оживленной Замковой улице, в самом центре города, и занимала длинный флигель упраздненного университета… Рядом с нашей гимназией была Первая гимназия… она занимала главное здание университета, где были необыкновенной толщины стены и широкий коридор, подымавшийся в верхний этаж пандусом (pente douce) вместо лестницы, — там помещалась домашняя православная церковь, общая для обеих гимназий.
… Старый университет представлял из себя довольно сложный конгломерат зданий с внутренними двориками и переходами. От прежних времен сохранилась и небольшая башня давно упраздненной обсерватории с красивым фризом из знаков Зодиака. Все эти здания окружали большой двор Первой гимназии, засаженный деревьями; ко двору примыкал стройный фасад белого костела Св. Яна, а рядом с костелом стояла четырехугольная колокольня с барочным верхом, возвышавшаяся над всеми крышами Вильны.
В Вильне старина как бы обнимала меня (даже в гимназии), и я жил среди разных преданий, связанных с городом…» [126]
Примерно десятилетием позже виленским гимназистом был Михаил Бахтин (учился в 1905–1911 гг. с перерывами из-за болезни). Полвека спустя он рассказывал: «Первая Виленская гимназия, где я учился, находилась в здании университета… самые лучшие воспоминания связаны, конечно, с детством, но и с Вильнюсом, и с этой гимназией, и с этим домом прекрасным. Дом этот — целый остров… Целый квартал он занимал, и все там было интересно, и атмосфера там была какая-то особая. Несколько дворов было. Каждый двор имел название. Вот, например, тот двор главный, с которого все входили, — это так называемый двор Лелевеля» [127].
Воздух старины ощущался и в середине XX века, и позднее; об этом написал Томас Венцлова, вспоминая свои студенческие годы: «Атмосферу старого университета сохранили только стены, прекрасные библиотечные залы и еще более прекрасные дворы. Их не то девять, не то тринадцать. Мы поговаривали, что в этом лабиринте есть места, куда не ступала нога человека» [128](добавим, что автор описал университет в своем путеводителе по городу, изданному в 2001 г.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: