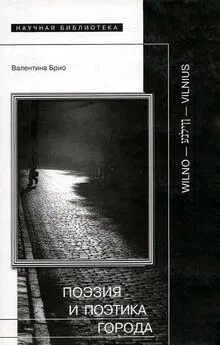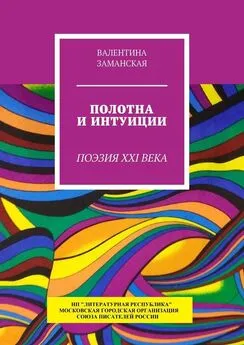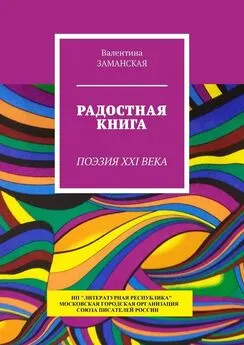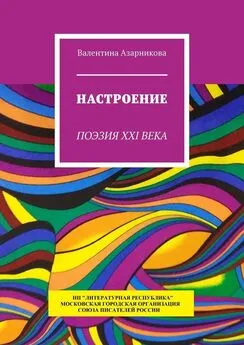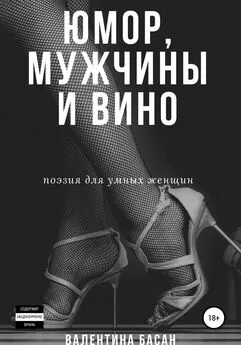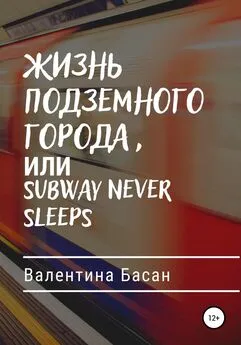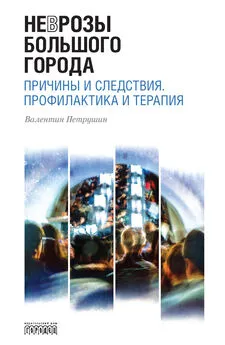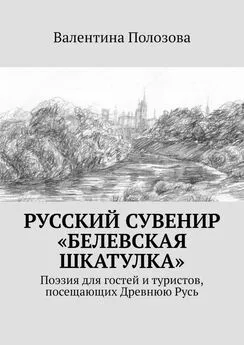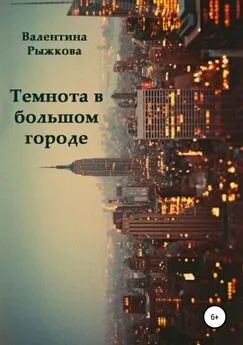Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
- Название:Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-613-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентина Брио - Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius краткое содержание
Сосуществование в Вильно (Вильнюсе) на протяжении веков нескольких культур сделало этот город ярко индивидуальным, своеобразным феноменом. Это разнообразие уходит корнями в историческое прошлое, к Великому Княжеству Литовскому, столицей которого этот город являлся.
Книга посвящена воплощению образа Вильно в литературах (в поэзии прежде всего) трех основных его культурных традиций: польской, еврейской, литовской XIX–XX вв. Значительная часть литературного материала представлена на русском языке впервые. Особенная духовная аура города определила новый взгляд на его сложное и противоречивое литературное пространство.
Поэзия и поэтика города: Wilno — װילנע — Vilnius - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
У «променистых» сложились свои обычаи — «целование» (с председателем) в знак дружбы и братства, ритуальное питье молока в знак скромности, воздержанности и отказа от крепких напитков.
Мицкевич с энтузиазмом принял идею этой новой организации, радовался ее массовости, хотя и старался несколько охладить восторг своих товарищей. Он разработал нечто вроде устава: «Речь о структуре и целях Товарищества» (в письме к Зану 13/25.5.1820; т. 2, 80–91). Вот как это мыслилось: «Целью „променистости“ является счастье» (т. 2, 83), «исправлять молодежь, приучать к искренности, простоте, искоренять эгоизм» (т. 2, 82); «… Мы желали, чтобы забавы эти веселили ум наукой, а тело упражнениями, и происходили очень рано, чтобы не мешали дневным трудам. Руководителем избрали Томаша и назвали его Аrcy [т. е. Архи-] с добавлением „променистый“» (т. 2, 292).
О выдающейся роли Томаша Зана говорили все. Как писала его позднейший биограф Мария Дунаювна (Dunajówna): «…из одного из усерднейших, но недооцененных… членов филоматов вырос он в вождя всей академической молодежи и стал символом высших духовных ценностей польского студента» [52].
4. Рождение легенды. Филоматские адреса Вильно
Несмотря на конспирацию, и об обществах, и о маевках, и просто о веселых проделках студентов в городе было известно, и сразу же об этом начинают распространяться и бытовать слухи. Так складывалась прижизненная легенда. В чем-то это было неожиданно для самих участников. Благодаря их переписке мы можем услышать зафиксированную ими непосредственную реакцию в городе. «О Зановых „променках“. Писать о них значит писать о вещах, превосходящих правдоподобие. Сделался великий шум, повсюду говорят, приветствуют друг друга „променисто“», — сообщает Малевский Мицкевичу (1820) (т. 2, 60). Ему вторит Ежовский: «не прекращаются толки о „променистости“, а больше о самой маевке „променистых“. Чуть ли не по всем домам известны эти слова: будет любопытно знать, что же они значат» (т. 3, 61). Толки были, впрочем, разные. Профессор Юзеф Франк: «Недостатки дисциплины особенно давали себя знать между студентами, которые начали организовывать тайные общества под названием „ Променистых “. Лихой журнальчик, издававшийся уже несколько лет, „Wiadomości brukowe“ („Уличные известия“), перешел все границы приличия, разглашая семейные тайны и отыскивая наиболее уважаемых особ, которые не принадлежали к секте мнимых реформаторов» [53]. И наконец, сам Зан рассказывает: «Кто был, кто не был на маевке, каждый говорит о „променистости“; если не вещь, то слово „променистость“ перебегает по всем домам… Девицы и панны с восторгом о „променистых“ говорят. Не знаю, что будет дальше» (т. 2, 70).
Виленская легенда Мицкевича и филоматов-филаретов складывалась спонтанно, не вполне определенно, но всегда будет сохранять основные смысловые звенья. Здесь она понимается, вслед за М. Виролайнен (которая рассуждает о пушкинской, что существенно), таким образом: «Легенда изначально рождается как повествование, как рассказ. Она может опираться на то, что действительно было, но имеет большую степень свободы от него… может как угодно удаляться от реальности, о которой она повествует, обрастать вымышленными подробностями» [54]. Интерес представляет, конечно, и материал, из которого творятся легенды [55], к чему мы и вернемся чуть ниже.
Думается, что в характере студенческой жизни, учебе, досуге, формах творчества филоматов можно видеть черты, сближающие их с лицеистами — «пушкинским выпуском» Царскосельского лицея [56].
«Филоматские локусы» Вильно включают различные адреса. Студенты проводили учебный день в достаточно замкнутом и огражденном (условно, конечно) от остального города пространстве: кварталы университета ограничены неправильным треугольником улиц, к которым здания обращены фасадами, а внутри — лабиринт из уютных внутренних двориков. Приведем описание главного, Большого двора, из книги искусствоведа Микалоюса Воробьеваса «Искусство Вильнюса» (1940), написанной, как кажется, не без влияния известных «Образов Италии» Павла Муратова. «Опоясанный с трех сторон аркадами, а с четвертой закрытый пышным фасадом костела Св. Иоанна, двор этот восхищает нас широким и одновременно соразмерно организованным пространством. Мы здесь чувствуем себя словно на площади, окруженной величественной архитектурой, или в громадном зале для торжеств, расположенном под открытым небом, — будто на площади Св. Марка в Венеции. Подобное вторжение светлого южного пространства в средневековые улицы северного Вильнюса произошло уже раньше, — в ренессансной архитектуре большого двора Нижнего замка. Но аркады университетского двора — уже не тот гармонично простой ренессанс: вместо стройных колонн мы видим здесь массивные прямоугольные столбы, соединены они не легкими, полукруглыми арками, а напряженными, твердо изогнутыми эллиптическими дугами; все это, а также тяжеловесная профилировка карнизов и обрамлений свидетельствует о победе патетического римского барокко» [57]. Студенты жили рядом и даже на территории университета, нередко квартируя у собственных профессоров (Ежовский, например, в 1818 г. жил у проф. Шимона Жуковского) или служащих. В Кардиналии (т. е. бывшем доме кардинала Ежи Радзивилла) служили Чечот и Зан, которым приходилось зарабатывать на жизнь; здание располагалось на Замковой улице, и поселившийся поблизости Мицкевич после их отъезда горевал об отсутствии рядом друзей: «Сколько раз, глянув на Кардиналию, вздохну…» Зан в 1816 г. жил в университете у Казимежа Контрима (адъюнкта и библиотекаря): «под одной крышей и моя квартира и залы, в которые хожу на занятия» (т. 1, 26), — писал он родителям. И вспоминал позднее: «Жил я у Казимежа Контрима с обязанностью репетитора его племянника-гимназиста» [58]. В Университете на том же этаже, в тех же стенах, что Францишек Малевский, сын ректора, жил лучший его приятель, сын профессора русской литературы Чернявский. Петрашкевич жил во флигеле дома Паца (известного в прошлом магната) на Wielkiej (Большой) улице. Зан иногда останавливался у знакомых во дворце Лопацинских. Порою шутили, что немудрено тут и умом тронуться: «соседствую с бонифратрами» (т. е. с костелом Бонифратров поблизости от университета; монахи-бонифратры, «добрые братья», опекали больницу для умалишенных — т. 1, 435).
Здание Консистории вблизи Кафедрального собора также было филоматам хорошо известно: в 1820 г. там жил Ежовский. Антоний-Эдвард Одынец так описал жилище студентов в нем: «Под вечер пришел за мной Фрейенд с Домейкой и вдвоем повели в дом, где жил Чечот, но не прямо в его комнату, а в другую в том же коридоре. Весь этот дом когда-то был монастырем семинаристов, но теперь служил уже только жилищем многим университетским студентам, занимавшим отдельные кельи. Чечот занимал даже две соединенные между собой и бывшие когда-то жилищем ксендза-регента, обязанности которого Чечот как бы исполнял, не de jure, a de facto — над своими младшими соседями-жильцами. Весь этот дом огромный, трехэтажный (по-виленски), стоял рядом с кафедральной колокольней. Позже его разрушили при создании площади» [59]. Домейко и Ежовский квартировали и на Бернардинской. Петрашкевич писал Мицкевичу (5.11.1819): «Юзеф с Домейкой остановились на ул. Бернардинской… хоть и голодно и холодно, но жить будут свободно» (т. 1, 148). Филоматы сами придавали значение (может быть, невольно) своим жилищам и адресам — довольно часто описывали дома и квартиры, любили вспоминать их и позднее; те постоянно фигурируют в их воспоминаниях — это эмоционально переживавшееся мини-пространство было частью тогдашней молодой жизни, встреч, бесед и споров.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: