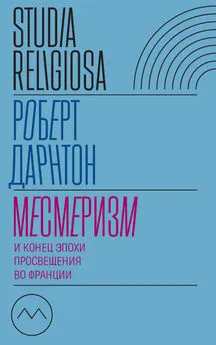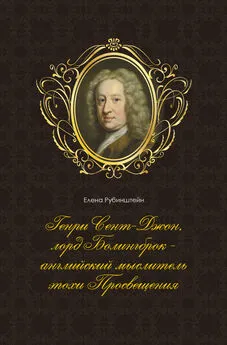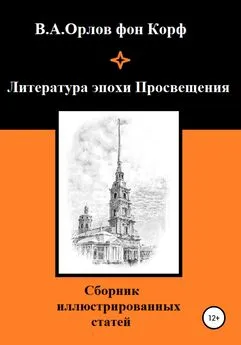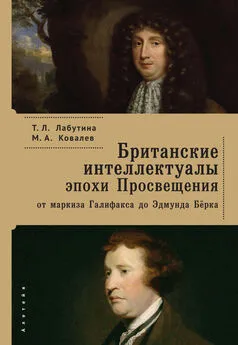Ларри Вульф - Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения
- Название:Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-197-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ларри Вульф - Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения краткое содержание
В своей книге, ставшей обязательным чтением как для славистов, так и для всех, стремящихся глубже понять «Запад» как культурный феномен, известный американский историк и культуролог Ларри Вульф показывает, что нет ничего «естественного» в привычном нам разделении континента на Западную и Восточную Европу. Вплоть до начала XVIII столетия европейцы подразделяли свой континент на средиземноморский Север и балтийский Юг, и лишь с наступлением века Просвещения под пером философов родилась концепция «Восточной Европы». Широко используя классическую работу Эдварда Саида об Ориентализме, Вульф показывает, как многочисленные путешественники — дипломаты, писатели и искатели приключений — заложили основу того снисходительно-любопытствующего отношения, с которым «цивилизованный» Запад взирал (или взирает до сих пор?) на «отсталую» Восточную Европу.
Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Возвращение Моцарта в Прагу осенью того же года с новой оперой, которую он заканчивал в самую последнюю минуту, стало составной частью его легенды. В 1855 году немецкий поэт-романтик Эдуард Мёрике посвятил этой легенде повесть «Моцарт по дороге в Прагу». Мёрике наделил своего Моцарта трогательной чувствительностью и совершенно детской очаровательностью; композитор останавливался на обочине, чтобы показать Констанции красоту окружающего леса: «Видишь ли, в моей юности я проехал пол-Европы, я видел Альпы и океан, все самое величественное и самое прекрасное во вселенной; а теперь я как идиот случайно остановился в самом обычном хвойном лесу на границе Богемии, потерявши голову от изумления и восторга, что нечто подобное может и вправду существовать». На самом деле все, должно быть, обстояло несколько иначе; из его январского письма видно, что на границе Богемии «идиотизм» Моцарта выражался не в восторгах по поводу соснового леса; он превратил себя в Пункититити, а Констанцию — в Шаблу Пумфу. Любопытно, что в XX веке, по крайней мере — в одном немецком издании Моцарта, легкомысленный абзац с новыми именами был аккуратно опущен, представляя читателям образ более серьезного Моцарта на пути в Прагу [261] Mörike Eduard. Mozart on the Way to Prague. Trans. Walter Aphilips, Catherine Alison Philips // German Novellas of Realism. I. Ed. Jeffrey L. Sammons. New York: Continuum, 1989. P. 255; Mozart Wolfgang Amadeus. Mozarts Briefe. Ed. Wilhelm A. Bauer, Otto Erich Deutsch. Frankfurt: Fischer Bbcherei, 1960. P. 149.
.
В 1787 году Казанова тоже гостил в Богемии, в замке графа Вальдштейна. Старый авантюрист отправился в Прагу, чтобы договориться об издании своего «Icosamerona», фантастической истории инцеста, брака между братом и сестрой, которые затем совершили путешествие к центру земли, в страну мегамикров. Мегамикры эти были плавающими существами, чуть более полуметра длиной, «всех вообразимых расцветок, кроме белой и черной», которые общались при помощи особого языка, «гармонического пения» [262] Casanova Giacomo. Casanva’s Isocameron. Trans. Rachel Zurer. New York: Jenna Press, 1986. P. 20–22.
. Казанова мог присутствовать на премьере «Don Giovanni», в котором он, конечно, узнал бы отзвук одержанной им самим череды сексуальных побед. В данном случае, однако, завоевателем был Моцарт, во второй раз за один год с триумфом выступавший в Праге. Восторженный прием «Don Giovanni» в Праге якобы заставил Моцарта воскликнуть: « Meine Prager versehen mich » («Мои пражане меня понимают»); изречение это стало девизом неумирающей легенды об особых отношениях между городом и великим композитором [263] Nettl. P. 158.
. Пражане, таким образом, ценили его музыку, а сам Моцарт, с его слабостью к словесным играм, несомненно забавлялся иронической ситуацией, когда они прекрасно его понимали, а он сам, попав к чехам, не понимал ни единого слова. Они аплодировали Вольфгангу Амадею, не зная, что одновременно аплодируют Пункититити.
У Моцарта были все основания запомнить, как Прага его поняла: когда «Don Giovanni» поставили в Вене в 1788 году, прием был заметно хуже. Лоренцо Да Понте, автор либретто, записал в изумлении:
И «Don Giovanni» им не понравился! Что же на это сказал император? «Опера божественна, быть может — даже лучше, чем «Фигаро», но это блюдо не по зубам моим венцам» [264] De Ponte Lorenzo. Memorie // Memorie, I libretti mozartiani: Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Cosm fan tutte. Milan: Garzanti, 1981. P. 129.
.
Небрежное упоминание «моих венцев» — император, несомненно, считал, что знает их вкусы, — недалеко ушло от моцартовского «мои пражане». В конце концов, есть что-то неуловимо имперское, даже самонадеянное в этой знаменитой фразе, превратившей жителей Праги в верных и любящих подданных композитора.
Потемкин надеялся выписать Моцарта в Санкт-Петербург, а сам Моцарт обзавелся книгой под названием «Географическое и топографическое описание для путешествий по всем землям Австрийской Монархии, а также дороги на Санкт-Петербург через Польшу». Подобное путешествие, несомненно, привело бы к новым победам, а также к появлению новых комических имен [265] Madariaga Isabel de. Russia in the Age of Catherine the Great. New Haven, Conn.; Yale Univ. Press, 1981. P. 534; Steptow Andrew. The Mozart-Da Ponte Operas: The Cultural and Musical Background to Le Noze di Figaro, Don Giovanni, and Cosm fa tutte. Oxford: Clarendon Press, 1988. P. 39.
. Приняв в Богемии имя Пункититити, Моцарт не перестал быть заезжим гостем из Вены, даже наоборот, комически подчеркнул свое чуть снисходительное отчуждение. Он мог называть себя Пункититити, но сборник немецких стихов, изданный в Праге в 1787 году, превозносил его как «германского Аполлона» и приветствовал словами: «Германия, твоя родина, протягивает тебе руки» [266] Nettl. P. 79–80.
. Это обращение словно эхом отразилось в словах дона Джованни, соблазняющего крестьянскую девушку Зерлину: «La ci darem la mano».
Имперская сторона отношений между Моцартом и пражанами проявилась более отчетливо во время третьего и последнего приезда летом 1791 года, всего за несколько месяцев до его смерти. Он прибыл на премьеру «La Clemenza di Tito», посвященной милосердию римского императора Тита и написанной на коронацию нового Габсбурга, императора Леопольда II, королем Богемии. Другой немецкий путешественник в Праге, Александр фон Клейст, вел записи о своей поездке на эту коронацию, изданные на следующий год в Дрездене под названием «Фантазии на пути в Прагу». У Клейста, подобно Моцарту, фантазии эти выливались в то, что он воображал себя кем-то другим. «Было ли это мечтанием ( Schwärmerei ) или обычным человеческим чувством, — писал Клейст, присутствовавший на премьере «La Clemenza di Tito», — в тот момент я скорее желал быть Моцартом, чем Леопольдом» [267] Ibid. P. 193.
. Образы императора и композитора сливались воедино: оба они были повелителями Праги, с триумфом приехавшими из Вены и волновавшими воображение прочих немецких путешественников. Клейст превратил преданность Моцарту в вопрос германской национальной гордости, отмечая особый энтузиазм «наших немецких слушателей». На самого Леопольда «La Clemenza di Tito» не произвела особого впечатления, а его супруга, императрица Мария-Луиза Испанская, проведшая вместе с Леопольдом много лет в Тоскане, отдала своеобразную дань немецким качествам итальянской оперы Моцарта, якобы отмахнувшись от нее с царственной грубостью как от « una porcheria tedesca » [268] Ibid. P. 201–202.
.
Первым биографом Моцарта стал в 1798 году богемец, Франц Ксавье Неметчек, описавший его печальный отъезд из Праги в 1791 году, «с предчувствием приближающейся смерти». В Вене некоторые приписывали фатальный недуг нездоровому «богемскому воздуху» и даже богемскому пиву, но Неметчек утверждал, что в декабре, когда Моцарт скончался, в Праге пролили больше слез, чем в Вене. Уже на следующий год, в 1792 году, пражская газета писала о том, что в этом городе по-особому «понимают» композитора: «Кажется, что Моцарт сочинял для Богемии; его музыку нигде не понимают и не исполняют лучше, чем в Праге» [269] Ibid. P. 216–221.
. Его либреттист Да Понте вернулся в 1792 году в Прагу и видел на сцене три их совместных произведения, «Figaro», «Don Giovanni» и «Così fan tutte». В своих мемуарах он вспоминает «энтузиазм богемцев», вызванный Моцартом, их восхищение даже теми его произведениями, которые «меньше всего ценят в других странах», и способность «совершенно» понимать его дар, который другие народы признали лишь «после многих, многих представлений» [270] De Ponte. Memorie. P. 168–169.
. Однако, отдавая должное художественному вкусу богемцев, Да Понте не обошелся без иронической инверсии, подобно тому как вымышленный богемский скрипач у Гримма пророчествовал в Париже, обличая фальшь французской оперы. Перед тем как покинуть Богемию, Да Понте разыскал другого венецианца, Казанову, который был ему должен, но тот не смог расплатиться. Моцарт умер, и, не пользуясь более популярностью в Вене, Да Понте не знал, где и как ему устроить свое будущее. В 1792 году Казанова настоятельно советовал ему отправиться в Лондон. Он так и сделал и закончил свою долгую карьеру, преподавая итальянский в Нью-Йорке в Колумбийском университете. В 1791 году, однако, он думал отправиться в Санкт-Петербург [271] Ibid. P. 141–142.
.
Интервал:
Закладка:
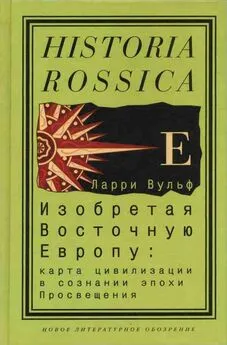

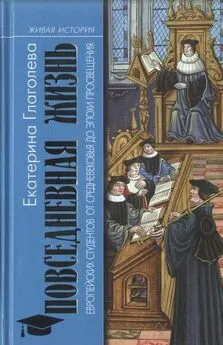

![Татьяна Лабутина - Британские интеллектуалы эпохи Просвещения [от маркиза Галифакса до Эдмунда Берка]](/books/1064514/tatyana-labutina-britanskie-intellektualy-epohi-pr.webp)
![Жорж Вигарелло - История тела Том 1 [От Ренессанса до эпохи Просвещения]](/books/1081515/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-1-ot-renessansa-d.webp)
![Филипп Арьес - История частной жизни Том 3 [От Ренессанса до эпохи Просвещения]](/books/1082541/filipp-ares-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-3-ot-renes.webp)