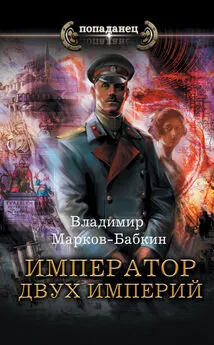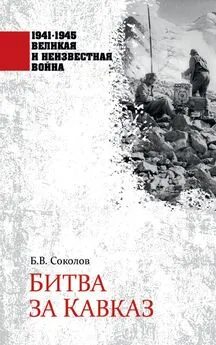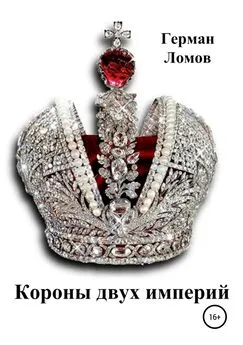Олег Соколов - Битва двух империй. 1805–1812
- Название:Битва двух империй. 1805–1812
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель, Астрель-СПб
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-42347-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Соколов - Битва двух империй. 1805–1812 краткое содержание
Соколов Олег Валерьевич — крупнейший специалист по истории наполеоновской эпохи, кавалер ордена Почетного легиона, основатель движения военно-исторической реконструкции в России — впервые раскрывает нам тайну рокового решения Наполеона — почему же он начал войну с Российской империей?
Может, причиной тому мечты Наполеона о мировом господстве? Или у войны 1812 года были совсем другие «авторы», на совести которых лежит ответственность за эту историческую трагедию? Почему не состоялся «русский брак» императора? Кто хотел стать польским королем? Кому была выгодна эта война — разделенной Польше, изолированной Англии, униженной Пруссии? Кто проигрывал от союза Франция — Россия?
Впервые за двести лет здесь представлены оригинальные первоисточники — архивные документы, дневники, мемуары (как русские, так и французские), — с которыми еще не знаком российский читатель. Бесстрастная история — без цензуры.
Битва двух империй. 1805–1812 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Очень сложно провести соответствие между покупательной способностью денег той эпохи и нашего времени. Можно только привести некоторые цены в указанный период, которые могут дать понятие о ценности тогдашних денег. Так, например, в неизданной части дневника Дмитрия Михайловича Волконского за февраль 1810 г. записано, что повсюду дороговизна: «в трактирах на одну персону кушание без водки и вина — 2½ рубля ( ассигнациями ), на сутки два покоя малые — 2½ рубля ( ассигнациями )» 41. Тот же автор указывает, что четверть овса (209 л) стоит от 1¼ до 1½ рубля ассигнациями. Поездка же на извозчике — не дешевле 30 копеек. Из изданной части дневника Д. М. Волконского мы можем также узнать, что в мае 1812 г. поденщики настолько подняли расценки, что требуют по «1 руб. 10 коп. в день» 42. Таким образом, даже поденный рабочий в Москве мог зарабатывать раза в два больше, чем младший офицер. Последнему же, получавшему в месяц жалованье 12 рублей, было сложно гульнуть в трактире или кататься на извозчике.
Кроме всего прочего, офицер должен был экипироваться на свои деньги, а стоимость полного обмундирования составляла не менее 200 рублей, то есть равнялась годовому жалованью капитана!
Даже свитский офицер H. Н. Муравьев вспоминает, что ему не хватало денег на самое необходимое: «Мундиры мои, эполеты, приборы были весьма бедны; когда я еще на своей квартире жил, мало в комнате топили; кушанье мое вместе со слугою стоило 25 копеек в сутки; щи хлебал деревянною ложкою, чаю не было, мебель была старая и поломанная, шинель служила покрывалом и халатом, а часто заменяла и дрова. Так жить, конечно, было грустно, но тут я впервые научился умерять себя и переносить нужду» 43.
Конечно, сказанное относится к простым армейским офицерам. Их товарищи по оружию из гвардии, выходцы из богатейших семей российской аристократии, могли себе позволить блистательную униформу и траты на безумные кутежи, ставшие источниками для многих литературных произведений, которые ввели в массовое сознание расхожий штамп русских офицеров — кутил и повес.
Увы, жизнь простого армейского офицера и его тяжелое материальное положение было таковым, что ему подчас сложно было даже заказать хорошие эполеты. Если до войн с Наполеоном и вызванной гонкой вооружений инфляции жалованье русских офицеров можно было считать скудным, то в результате безудержного увеличения армии и сопутствующего печатания ассигнаций доходы офицеров, живших только на жалованье, стали ничтожными. И можно только диву даваться, как армейским офицерам удавалось выживать.
В этом смысле реформы Барклая де Толли ничего не могли изменить вследствие катастрофической нехватки финансовых средств.
Что касается образовательного уровня офицерского состава, подобно тому, как это было и во многих других армиях тогдашней Европы, лишь меньшая часть имела военное образование. Только 25–30 % русских офицеров войны 1812 г. закончили военные учебные заведения. 44Что же касается основной массы офицеров, она готовилась прямо в полках. В основном производились унтер-офицеры из дворян, прослужившие в этом чине не менее года.
Несмотря на все эти недостатки, с которыми министр был бессилен бороться, в русской армии с 1810 г. велась огромная работа по увеличению численности вооружённых сил, по улучшению их снабжения, совершенствованию организации и боевой подготовки войск.
Добавим в качестве курьёза, что именно в этот период в российской армии появился обычай отдавать честь. До этого только при встрече с императором генералы и офицеры обязаны были останавливаться и, вставая по стойке «смирно», снимать головной убор. Приказом военного министра от 23 июня 1808 г. было предписано головных уборов не снимать, а остановившись, поднимать левую рукук шляпе. Также было предписано приветствовать и генералов, а при встрече с другими офицерами лишь приложить, не останавливаясь, левую руку к головному убору.
Возвращаясь к масштабным преобразованиям, отметим, что далеко не все замыслы Барклая де Толли удалось реализовать до конца, но в общем и целом армия усилилась не только в количественном отношении. Конечно, за счёт массовых рекрутских наборов произошло ухудшение рядового состава, но зато в целом войска теперь были лучше подготовлены к боевым действиям, чем в предыдущие войны.
В 1811 г. армия, готовая к бою, стояла на границе. К концу года ее дислокация была следующей.
Корпус графа Витгенштейна (5-я и 14-я пехотные дивизии, 1-я кавалерийская дивизия) — 34 290 человек — в Лифляндской и Курляндской губерниях.
Корпус генерал-лейтенанта Багговута (1,4, 17-я пехотные дивизии, 1-я кирасирская, 2-я кавалерийская дивизия) — 47 520 человек — в Виленской и Витебской губерниях.
Корпус генерал-лейтенанта Эссена I (3,11,23-я пехотные дивизии, 3-я кавалерийская дивизия) — 41 045 человек — в Гродненской, Минской и Могилевской губерниях.
Армия генерала от инфантерии Багратиона (2, 7, 12, 18, 24, 26-я пехотные дивизии, 2-я кирасирская, 4-я, 5-я кавалерийские дивизии) — 104 322 человека — на Волыни и в Подолье.
В общем, на западных границах было сосредоточено около 227 тысяч человек (речь идет только о строевых).
По флангам этих сил и в тылу располагались:
На севере, в Финляндии, — корпус генерал-лейтенанта Штейнгеля (6, 21, 25-я пехотные дивизии и два драгунских полка) — 30 653 человека.
В Петербурге — корпус великого князя Константина (гвардия конная и пешая, два гренадерских и один пехотный полк) — 28 526 человек.
На юге, на Дунае, находилась Молдавская армия генерала от инфантерии Кутузова (8, 9 (частично), 10, 15, 16 и 22-я пехотные дивизии, 6-я и 7-я кавалерийские дивизии) — 87 026 человек. [71] Как уже указывалось, из 9 дивизий Молдавской армии пять были направлены в начале 1811 г. к западным границам империи, но, так как нападение на герцогство Варшавское было отменено, две дивизии (9-я и 15-я) были возвращены на Дунай. В результате в Молдавской армии было 6 дивизий.
В Крыму — корпус генерал-лейтенанта герцога Ришелье (13-я и 9-я (частично) пехотные дивизии, кавалерия, впоследствии сведённая в 8-ю кавалерийскую дивизию) — 19 501 человек.
На кавказской линии — корпус генерал-лейтенанта Ртищева (19-я пехотная дивизия, 1 драгунский полк) — 9928 человек.
В Грузии — корпус генерал-лейтенанта Паулуччи (20-я пехотная дивизия и два драгунских полка) — 23 745 человек.
В Москве формировалась 27-я пехотная дивизия генерал-майора Неверовского — 10 641 человек. 45
В начале 1812 г. войска еще ближе подтянулись к границе. Гвардия выступила из Санкт-Петербурга, а Кутузов получил приказ отослать обратно 9-ю и 15-ю дивизии из Молдавской армии, вернувшиеся к ней в конце 1811 г. Они должны были присоединиться к левому флангу армии Багратиона.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
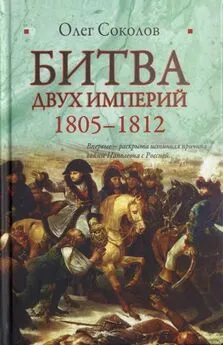
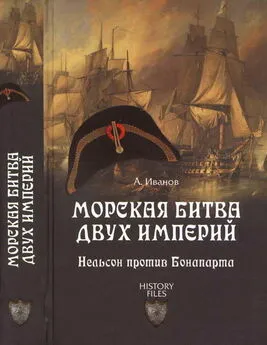
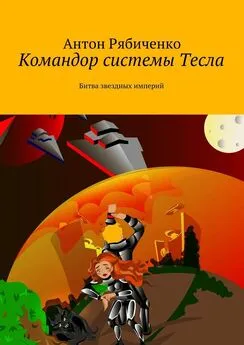
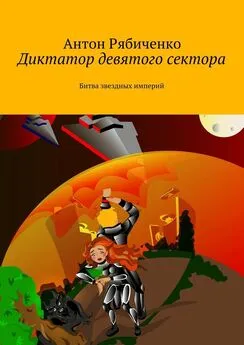

![AnaGran - Наследник двух империй [СИ]](/books/1079362/anagran-naslednik-dvuh-imperij-si.webp)
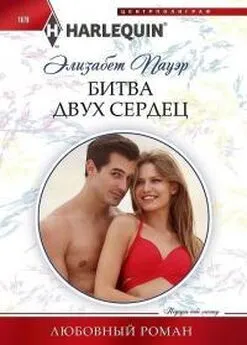
![Владимир Марков-Бабкин - Император двух Империй [litres]](/books/1143971/vladimir-markov.webp)