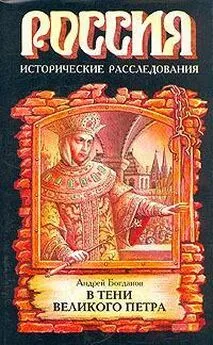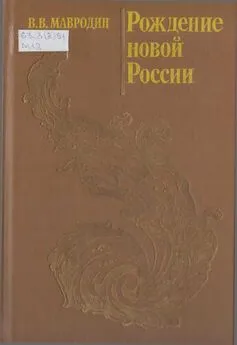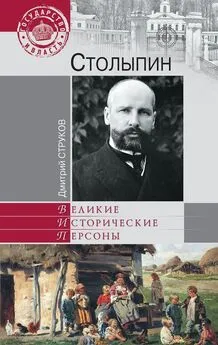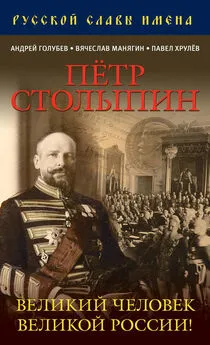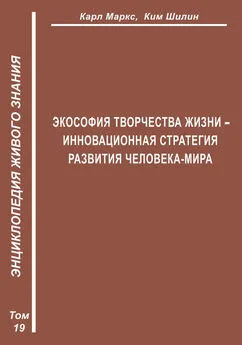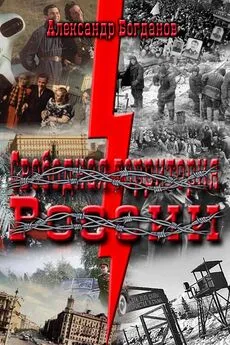Андрей Богданов - 1612. Рождение Великой России
- Название:1612. Рождение Великой России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2013
- Город:М.
- ISBN:978-5-4444-0678-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Богданов - 1612. Рождение Великой России краткое содержание
В 1612 году на карте мира появилась вместо Московского государства новая держава — Великая Россия. Величие ее состояло не в превосходстве над другими странами по размерам территории. Великой назвали свою страну выборные представители её уездов, подчёркивая, что власть принадлежит всей земле, а не только Москве. Столичные бояре призвали в Москву интервентов и потеряли право на власть. Только Земский собор сословий и районов России мог спасти разоренную гражданской войной и преданную своей верхушкой державу. Новая книга доктора исторических наук Андрея Богданова расскажет читателю тяжёлую правду о Смутном времени и православных людях, которые сумели его преодолеть.
1612. Рождение Великой России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Прямые и кривые в Смутное время» великого бытописателя И.Е. Забелина, вышедшие несколькими тиражами, казалось, должны были обратить внимание историков на проблему характера князя Скопина и его отношения к событиям гражданской войны {38} 38 Забелин И.Е. Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. Изд. 4-е. М., 1901.
. Но даже преизрядный знаток источников и литературы B.C. Иконников в книжке о Михаиле Васильевиче уклонился от этой задачи {39} 39 Иконников B.C. Князь М.В. Скопин-Шуйский. Критико-библиографический очерк. СПб., 1875; Его же. Новые исследования по истории Смутного времени Московского государства. Киев, 1899.
.
Между тем, помимо изданий русских повествовательных источников, в XIX в. были введены в научный оборот обширные комплексы подлинных документов Смутного времени {40} 40 Акты исторические. Т, 1—2. СПб., 1841; Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Вильна, 1867; Собрание государственных грамот и договоров. Т. I. M., 1819; и мн. др.
. Сделался доступным широкий диапазон точек зрения на события, отраженный в записках иностранцев {41} 41 Муханов П.А. Записки гетмана Жолковского о Московской войне. Изд. 2-е. СПб., 1871; Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века. Вып. 1—5. М, 1896-1900; Петрей Петр де Ерлезунда. История о Великом княжестве Московском / Пер А.Н. Шемякина. М., 1867; Подлинные свидетельства о взаимных отношениях России и Польши преимущественно во времена самозванцев. М., 1834; [Посссвин Антоний.] Повествование о достопамятном завоевании отцовской империи Димитрием великим князем Московским в 1605 г. / публ. К.М. Оболенского // ЧОИДР. № 3. 1847/48. Отд. 3 (с приложением писем гетмана Я.К. Ходкевича); Нясецкий Павел. Смутное время и Московско-Польская война / публ. архим. Леонида // Памятники древней письменности и искусства. Вып. 68. СПб., 1887; Рожнятовский А. Описание польских дел в Москве при Димитрии, составленное одним из бывших там с 1605 до 1609 года // Акты исторические, относящиеся к России. Т. 2. СПб., 1842; Сказания Массы и Геркмана о Смутном времени. СПб., 1894; Сказания польского историка Кобержицкого о походах короля Сигизмунда и королевича Владислава в Россию // Сын Отечества. № 3.1842; Хвалибога И. Донесение о ложной смерти Лжедмитрия I // Временник МОИДР. Т. 23. 1855; Чтит А. История Московии // Маяк современного просвещения и образования. Ч. 17. СПб., 1841; Шамбшшго С. Письма королю Сигизмунду III о самозванце // Русская старина. № 5.1908.
. В последние годы XIX в. и первые 15 лет XX в. взрыв публикаций источников о Смуте, позволяющих по-новому взглянуть и на деятельность Скопина-Шуйского {42} , был связан с празднованием 300-летия Дома Романовых в атмосфере «Гром победы, раздавайся!». А после большевистского переворота, когда рядом замечательных ученых был издан целый свод материалов о народных движениях эпохи Смуты и о Крестьянской войне под руководством И. И. Болотникова в особенности {43} , лучший воевода противного, правительственного, лагеря был оставлен в стороне от наиболее трагических событий как «патриотический» герой.
В послереволюционное время издавался значительный актовый материал, причем не только относительно «классовой борьбы». Особенно следует отметить продолжение публикации первостепенных для изучения Государева двора разрядных документов, отмечавших все назначения и службы московских чинов {44} . Важнейшие повествовательные источники были переизданы на высоком научном уровне; в научный оборот вошли публикации малоизвестных и новооткрытых памятников {45} ; стали понятнее история создания и источники ещё не изданных, однако используемых учеными крупных летописей XVII в. {46} Но поразительное изобилие подлинных источников не изменило общей историографической установки. И скромные «книжные списатели», и такие крупные ученые, как Ю.В. Готье, С.Ф. Платонов, А.А. Зимин, И.И. Смирнов, В.И. Корецкий, известнейший автор Р. Г. Скрынников и др., воссоздавая интересную и полезную для нас картину событий {47} , предпочли тем или иным путем отстранить героического полководца Скопина от главного конфликта времени: борьбы царской власти и восставшего народа.
К князю Михаилу Васильевичу была прочно привязана драматургия, заложенная ещё в «Новом летописце» и талантливо развитая Карамзиным: «Лучший из воевод, хотя и юнейший, в годину величайшей опасности с печалью удалился от рати, думая, что возвратится, может быть, уже поздно, не спасти царя, а только умереть последним из достойных Россиян! … Так успел Герой-юноша в своем деле великом! За 5 месяцев пред тем оставив Царя почти без Царства, войско в оцепенении от ужаса, среди врагов и предателей — находя везде отчаяние и зложелательство, но умея тронуть, оживить сердца добродетельной ревностью, собрать на краю Государства новое войско отечественное, благовременио призвать иноземное, восстановить целость России от Запада до Востока, рассеять сонмы неприятелей многочисленных и взять одною угрозою крепкие, годовые их станы — Князь Михаил двинулся из Лавры, им освобожденной, к столице, им же спасенной, чтобы вкусить сладость добродетели, увенчанной славою» {48} .
С. М. Соловьев, в силу большего почтения к букве источника, не мог столь однозначно воспеть силу Скопина-Шуйского и значение его побед, а потому задался вопросом о «причинах славы и любви народной, приобретенных Скопиным». «Общество русское, — справедливо заметил историк, — страдало от отсутствия точки опоры, от отсутствия человека, около которого можно было бы сосредоточиться». 24-летний воевода волею судеб стал этой точкой притяжения народной надежды: «В один год приобрёл он себе славу, которую другие полководцы снискивали подвигами жизни многолетней, и, что ещё важнее, приобрел сильную любовь всех добрых граждан, всех земских людей, желавших земле успокоения от смут, от буйства бездомовников, казаков, и все это Скопин приобрел, не ознаменовав себя ни одним блистательным подвигом, ни одной из тех побед, что так поражают воображение народа, так долго остаются в его памяти» {49} .
Так писал ученый, интересовавшийся в первую очередь осмыслением огромного архивного материала. К настоящему времени трудами поколений историков и археографов проблема анализа и систематизации массы разновидных источников о событиях Смутного времени и роли в них Михаила Васильевича Скопина-Шуйского в значительной мере разрешена. Кажется странным, что в науке и литературе многие до сего дня озабочены лишь тем, как успешнее использовать в своих трудах столь ярко обозначенную Карамзиным легенду. Это никак не приближает к пониманию действительно незаурядной личности и трагической судьбы князя Михаила Васильевича.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: