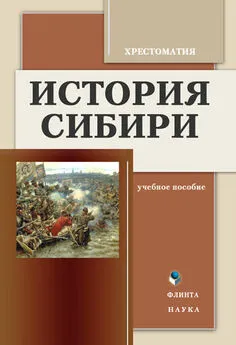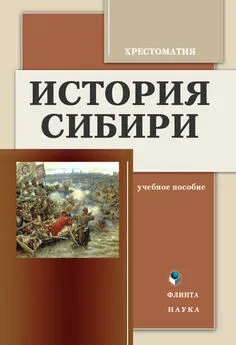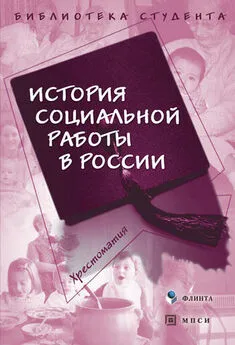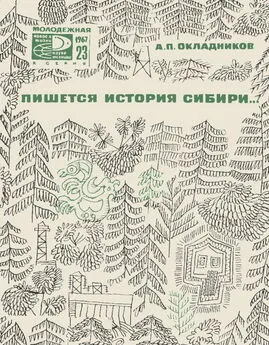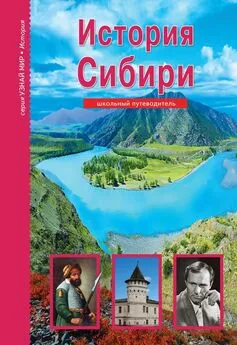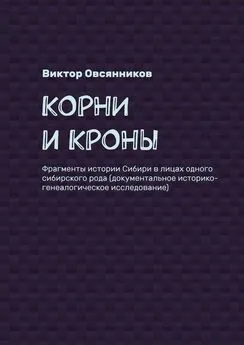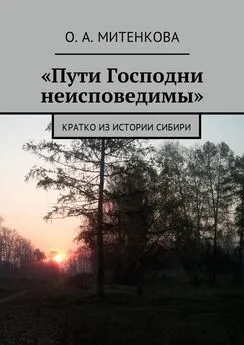К. Воложанин - История Сибири: Хрестоматия
- Название:История Сибири: Хрестоматия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-1167-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
К. Воложанин - История Сибири: Хрестоматия краткое содержание
Хрестоматия «История Сибири» составлена в соответствии с программой учебного курса. Содержит материалы по основным темам практических занятий. Для студентов неисторических факультетов.
История Сибири: Хрестоматия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
(Покровский Н. Н. Земледельческая колонизация востока России. URL: http://www.zaimka.ru)
Что такое «переложное хлебопашество»?
В описаниях употребляются такие выражения: «тяжелая пахота» и «легкая пахота». Что это такое? «Тяжелая пахота» – это вспашка целины. А вспашка на второй год, по ранее вспаханному полю, считалась «легкой пахотой». Прибывшие переселенцы в 1635 г. землю получали от властей. Никогда ранее эта земля не обрабатывалась. Работа была физически тяжелой, поэтому распахивались небольшие участки, называемые «загонами». В описаниях тех лет сообщается, что на третий год жизни переселенцев посевы были в полдесятины, по десятине и самое большее – полторы десятины. Сеяли обычно в первый год озимую рожь. На второй год – пшеницу. На третий – овес или ячмень.
В архивных документах сказано, что основатель заимки крестьянин Ложников, освобожденный на три года от службы в армии, был толковым человеком. Он время даром не терял: за короткий срок смог привести свое хозяйство в хорошее состояние. У него были в идеальном состоянии распаханные поля, изба с прогонами для скота. На его дворе появились лошади и крупный рогатый скот местных пород. Через два-три года о казаках Ложниковых и Горчаковых сообщалось, что они получали государственное жалованье (семь рублей) и имели пашню (по полторы десятины в поле, а позже – по две десятины).
В XVII–XVIII вв. в сельском хозяйстве стало внедряться так называемое переложное хлебопашество. Что это такое? Поле пахалось и засеивалось в течение четырех-пяти лет, а потом его бросали на несколько лет, чтобы оно «отдохнуло». Крестьяне распахивали «новину» или, говоря современным языком, целинные земли. В одном из архивных документов мы нашли такое описание: «Пашут (крестьяне) на три поля: озимое, яровое и паровое. Новые залежные земли пашут от четырех до пяти лет, потом от усилившихся трав хлеба не бывает, и поле оставляют на отдохновение. Плодородие бывает на увальных и новых землях в плодовитое лето вчетверо и пятеро. Новую землю пашут и боронят три раза, озимый сев начинают в августе и сентябре, яровой – в мае. Жнут серпами… Хлеб кладут в клади, сушат в овинах, молотят молотилами на вертлюгах».
Новину начинали пахать в первый раз в конце мая. За лето пахали и боронили еще трижды. Срезанная дернина после столь долгих трудов превращалась в мягкую массу. Весенний сев продолжался до конца мая, а иногда и дольше. Жать рожь начинали в начале августа.
(Прими поклон, село Ложниково. Сказ о Сибири без прикрас / гл. ред. Н. Маслов. Омск, 2006. С. 18)
Образ жизни населения Сибири
Хотя Сибирь и входила в состав Российского государства, жизнь русского населения здесь в силу ряда объективных факторов существенно отличалась от той, которой жил московский человек того времени. К таким факторам, присутствующим почти при каждом великом колонизационном движении, следует отнести: сами задачи присоединения и освоения новой территории, слабость государственной центральной власти в колониях, состав населения и образ его жизни, влияние аборигенных культур.
Твердо установленных границ русской Сибири в XVII в. не существовало, они постоянно расширялись в связи с принятием в русское подданство все новых и новых аборигенных народов. Основная масса коренного населения вела кочевой образ жизни. Некоторые кочевые племена постоянно совершали нападения на русские города и села. Особенно это характерно для порубежных уездов Сибири – Тарского, Кузнецкого, Красноярского и т. д. На окраинах русскому правительству иногда просто не с кем было заключать официальные договоры о границах. Постоянно возникали ситуации, требовавшие оперативного решения, и местным властям и сибирскому русскому населению приходилось действовать самостоятельно. Московские чиновники порой плохо представляли себе, что такое Сибирь. Вот только один пример: в Сургут, стоящий на топком болоте, пришла из Москвы царская грамота, предписывающая в целях обороны прорыть «подземный подкоп» к реке!
Нельзя забывать, что в Сибири первый «государев» город был построен накануне Смутного времени, и Москве надолго стало не до Сибири. Но и позднее московская власть, сознавая невозможность реального контроля, не стала вводить здесь крепостное право, как русское, так и аборигенное население Сибири получило ряд льгот. Сибирское крестьянство систематически не выполняло главную государственную обязанность – сполна платить налоги. Почти в каждом сибирском городе неоднократно вспыхивали «бунты и нестроения». Особенно значительными были томские восстания и красноярский бунт 1698 г. Нередко из уст восставших звучали слова которых панически боялась Москва: «уйдем на Украйну и Дон заведем!». А уйти было куда… Надо отметить, что невольно сама Москва провоцировала эти «нестроения», организовывая постоянные сыски против каждого сменяющегося сибирского воеводы. При этом московской власти пришлось столкнуться с мощным сопротивлением общины, которую она уже сумела поставить под свой жесткий контроль в Европейской России, но не в Сибири. Особенно наглядно проявлялась роль общины в восстаниях и смутах.
Немаловажным фактором, который не позволял Москве установить жесткий контроль над всей сибирской жизнью, был сам состав населения. Дворянство как класс-сословие в Сибири отсутствовало, верхушка купечества – «гости» и члены «гостинной сотни» – была представлена единицами, и основная масса русского сибирского населения состояла из крестьян, посадских и «гулящих» людей, служилых казаков, высшие чины которых почти до самого конца XVII в. выходили из рядового казачества. Служилые люди всегда играли первенствующую роль в различных сибирских «мятежах», что вполне понятно: «свободная и самостоятельная сравнительно с московскими служилыми жизнь… полная всевозможных опасностей и борьба с людьми и природою, вырабатывала из них людей энергичных и подвижных, способных крепко постоять за себя и за свои интересы», а «постоянная служба в одном городе и уезде… соединяла сибирских служилых людей в одно дружное и крепкое сообщество… связанное однородными служебными интересами и близкими родственными связями». У правительства просто не было в Сибири того класса-слоя населения, на который оно могло бы полностью опираться в своей политике. Все это обусловливало определенную нестабильность в сибирском обществе. К тому же сословно-классовые границы здесь были сильно размыты.
При этом нельзя забывать, что почти каждый сибиряк в глазах властей и церкви имел не совсем безупречный моральный облик: уголовные и политические преступления числились за многими. Да и сама жизнь в Сибири, когда каждый мог рассчитывать только на свои силы и плечо товарища, вырабатывала не только храбрость и смелость, осознание себя как личности, но и дерзость, своеволие, пренебрежение законом. Почти постоянная военная опасность, привычка рисковать жизнью приучали легко относиться даже к убийству человека. И это также общая черта колонизационных движений: любое государство, стараясь стабилизировать положение в центре, всегда стремилось освободиться от нежелательных с его точки зрения элементов, выслав их куда-то подальше, в колонии. При этом даже если обычный человек попадал в сибирские условия, то жизнь быстро делала из него авантюриста, готового на самые рискованные предприятия. Опасности подстерегали человека не только на самом пограничье, но и в тех местностях, которые уже вроде бы прочно считались русскими владениями. Походы и служебные поездки служилых людей нередко напоминали разгромные набеги за ясырем (пленными из аборигенов). Так, в 1639 г. Москва направила из Нижнего Новгорода в Тобольск большую партию служилых людей для пополнения сибирских гарнизонов, которая состояла из самого разного сброда: тут были переведенные в Сибирь нижегородские стрельцы, отправленная в Сибирь на службу пленная «литва» и сосланные из тюрем колодники. Их поход за Урал напоминал вражеское нашествие: грабежи, разбои насилия, убийства. Крестьяне, вооружившись луками, пищалями, топорами, вынуждены были даже вступать с ними в бои.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: