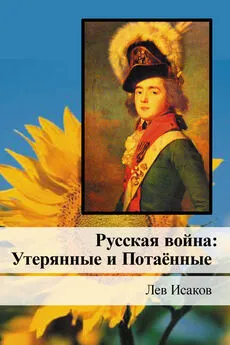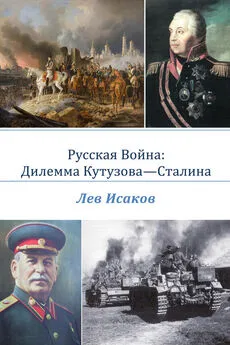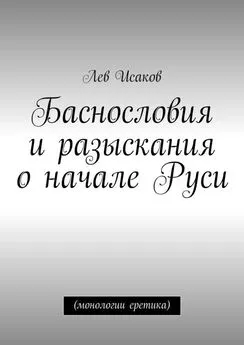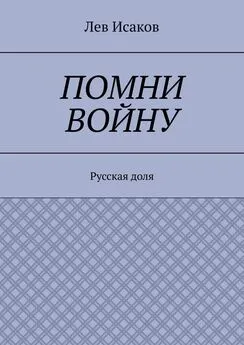Лев Исаков - Русская война: Утерянные и Потаённые
- Название:Русская война: Утерянные и Потаённые
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Издать Книгу»fb41014b-1a84-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Montreal
- ISBN:978-1-77192-092-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Исаков - Русская война: Утерянные и Потаённые краткое содержание
В 2002 г. генерал армии В.Варенников назвал работы автора по военно-политической истории Отечественных войн 1812 и 1941-45 гг., ставшими содержанием книги Русская Война: Дилемма Кутузова-Сталина,"новым словом в историографии". Но главный вывод историка: Россия – Историческое осуществление Евразии в Новое Время являет собой качественно иное пространство исторического, не сводимое ни к какой иной реалии всемирного исторического процесса; рождающий иной тип Исторического Лица, Эпохи, Исторического Действия, повелительно требовал и обращения и обоснования всем богатством отечественного исторического наследия. В 1998-2010 гг. в разных изданиях начинают появляться публикации Л.Исакова, шокирующие научное сообщество НЕВЕРОЯТНОЙ ПЛОДОТВОРНОСТЬЮ РЕЗУЛЬТАТОВ во внешне вполне проработанных темах, или взламывающие давно застывшие проблемы. Их академический вид не мог скрыть их характера: РУССКАЯ ВОЙНА ЗА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ. И как же много там открылось УТЕРЯННОГО И ПОТАЁННОГО…
Русская война: Утерянные и Потаённые - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Целовался сладко да с твоей женой!..
Эта черта в Цусиме присутствует очень выпукло: 7-месячное безнадежное плавание в психологически невыносимой обстановке осознания обреченности, до помешательств, самоубийств, стайных порывов, и когда уже все прояснено, сговорено, утрясено до парализующей обреченности – ринулись сами в пекло и с каким-то весельем.
– Двум смертям не бывать, а одной не миновать?!
– Лучше ужасный конец, чем ужас без конца?!
Как ни странно, это взрыв, броситься очертя всему 7-месячно наговоренному, кажется, не разорвал – соединил ненавистного Рожественского с экипажами, до того едва ли не пребывавшими на грани бунта, из-за того же похода и боя. Немец стал бы молиться и писать письма домой – Японец исполнился священного трепета исполнения бусидо – Англичанин стиснул зубы – Чеченец вспыхнул яростью дороже продать жизнь – Русские развеселились! Эта черта – перемена знаков энергии – неповторимо-необычная присутствует в Цусиме во множестве проявлений, интересная и в канве событий, и сама по себе, и в своем переходе на ступени всеобщего обобщения. Здесь проступает что-то неповторимо-особенное из скрытной физиономии нации, что-то сродни разбойнику Кудеяру, переменившемуся сразу в праведники.
И как сильно и страшно мог опереться на нее художник-творец трагедии-боя, уже в рамках прозрений собственного, возвышенного над приземленно-обычным наития.
В решении З. Рожественского идти прямым путем через Цусиму присутствует алогизм – но с оттенком пронзительности, это хрестоматийно неверно, несообразно – но это приобретает контуры огромной картины, уже задающей, а не диктуемой, и осуществись она также безоглядно-творчески, как и миг этого решения – можно было бы говорить о гении одного дня. Его же сталось едва ли и на час…
Что присутствовало в рассуждениях, если они были, в наитии, если оно вело, Рожественского, когда уже пройдя пролив Баши и уклонившись как бы к обходному, разумно-осторожному движению своей неслаженной армады, он вдруг отворачивает на Северо-Запад, проходит мимо Линкейских островов (ныне Нансей) и устремляется к Цусимскому проливу? Это сочетание расчета, интуиции, прозревающей значение данного пункта, и бросающее к нему без всяких околичностей – в присутствии Клеопатры на горничных не заглядываются?
В течение всего долгого похода З. П. Рожественский демонстрировал преобладающим качеством жесточайший темперамент-волю, бросавший его вплоть до кулачной расправы на все препятствующее; нарастающее неприятие сдерживающих его вещей, будь это мнение окружающих лиц или внешние обстоятельства. «Гулльский инцидент», когда русские корабли расстреляли несколько английских рыболовных баркасов на Даггербанке; захват прерогатив судебного ведомства – своей властью адмирал вводит на эскадре режим военного положения, по которому может расстреливать и вешать кого угодно; полное пренебрежение к уже многократно проверенной русскими моряками практике экваториальных переходов, освоенной еще со времени Крузенштерна и Лисянского, вопиюще бессмысленное разрушение обычного их хода, совершенно очевидное офицерскому составу эскадры, 2/3 командиров кораблей которой многократно пересекали эти воды – кажется, вырвавшийся на флагманский мостик из кабинета начальника Главного Морского штаба Рожественский исполнился желания все перевернуть и переломать.
С 70-х годов 19 века отправляясь в плавание на Дальний Восток, русские корабли устойчиво следовали кратчайшим путем через Суэцкий канал, на котором даже держали особую Средиземноморскую эскадру, как стальную колючку для Англии и Турции и средство обеспечения быстрого укрепления тихоокеанских морских сил, бездарно-безрассудно ликвидированную Николаем II. Наличие оборудованных портов, магазинов всякого рода было важным обоснованием на длинном пути, сопровождающемся поломкой механизмов и заболеванием моряков, дававшее разрядку от быта башен и палуб, столь важную в поддержании боевого духа экипажей; недостатком маршрута являлась его «многолюдность», делавшая невозможным утаить перемещение эскадры и проводить боевую учебу на значительной его части, как и то, что весь он был перехвачен враждебной Англией.
В качестве дополнительного страхующего, на случай крайнего обострения отношений с владычицей морей, осваивался ход вокруг мыса Горн, где можно было рассчитывать на относительный нейтралитет Бразилии, почти дружественной Аргентины, и даже проанглийская Чилийская республика все же не была ее прямой колонией; наличие современных портов делало его тоже удовлетворительным; двигаясь по диагоналям двух океанов, вне зон мирового торгового судоходства, и обозрений с берегов, эскадра становилась невидимой и непредсказуемой, могла совершенствовать все виды подготовки беспрепятственно, с учебными и боевыми стрельбами; до прорытия Суэцкого канала он был кратчайшим для плавания на Дальний Восток.
Вместо этого Рожественский избирает обходной путь во-круг Африки, через три океана, в протяжку берегов единственно пригодные пункты снабжения и судоремонта на которых только английские, совершенно катастрофический при любой крупной корпусной аварии, вследствие чего эскадра окружается громадным количеством обеспечивающих и ремонтных судов, и превращается в барыню, переезжающую из Москвы в подмосковную. Это делает сразу невозможным участие в общем походе старых кораблей типа «Наварина» и «Сысоя»; их приходится отправлять по наплаванной дорожке через Средиземное море и Суэц, то есть делить эскадру, что влечет неблагоприятные по-следствия для общей сплаванности соединения, единообразия подготовки и тактических воззрений начальствующих лиц, выработка которых и без того предельно осложнена разнобоем характеристик кораблей с 22-летним разбросом годов постройки («Донской» – 1883 г., «Орел» – 1904 г.), но Рожественского это немало не останавливает. Выйдя из Либавы со сборищем кораблей, каждый из которых «ещё тот тип» толи по неожиданности новизны, толи по забытости старости и вполне осознавая это – в книге его обожателя-подчиненного В. Семенова «Расплата» приводится эпизод: наблюдая превосходно маневрирующие английский крейсера в Бискайском заливе, Рожественский с прорвавшейся тоской произнес «Эх, мне бы такие!». Но сделать «такие», это и есть задача флагмана, разделение же эскадры у Гибралтара прямо перечеркивают какую-либо возможность ее худо-терпимой сплаванности, тем более боевой сплоченности, уже не судов – звеньев: какие-то иные приоритеты господствуют в соображениях русского адмирала, нежели стержневое для флотоводца – обратить корабли во флот.
Посланный через Суэц, многократно плававший в этих водах адмирал Фалькерзам разумно организует переход через тропики, в сбережение команд запасается даже пробковыми шлемами для палубных вахт и покойно приходит к указанному сроку в назначенный ему пункт, в уважении офицеров и доверии команд. Вопреки тому экипажи Рожественского надрываются в чудовищной работе, перегружая в море в экваториальных широтах, при самой примитивной механизации, талями, уголь; ремонтируясь на ходу – что можно бы скрипя сердцем оценить положительно, как выучку трюмной и механической части; и почти не занимаясь подготовкой боевых частей и ходово-маневренными учениями, что сразу обесценивает все муки похода – боевой корабль, это прежде всего пушка в броне, выгребающая морем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: