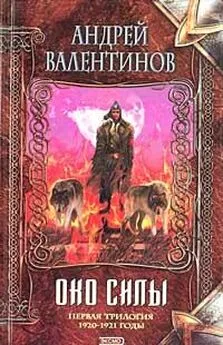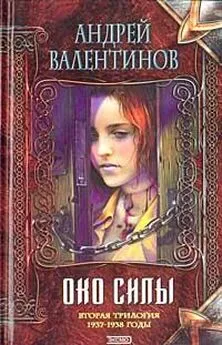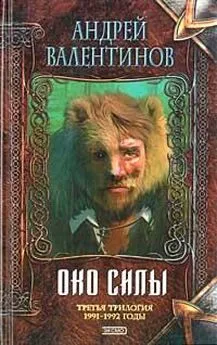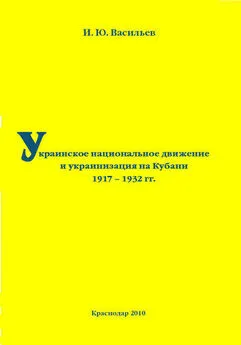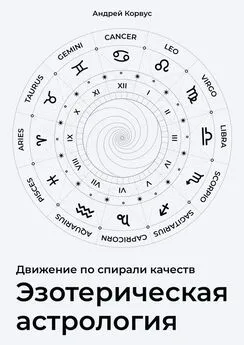Андрей Марчуков - Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы
- Название:Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-05824-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Марчуков - Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы краткое содержание
Что такое украинский национализм и какой идейный заряд он несет? Кто и зачем изгоняет русскую культуру, язык и идентичность из информационно-культурного пространства Украины? Чем вызвано противостояние внутри украинского общества? А главное: что такое «Украина», откуда и как она появилась, каков ее исторический путь?
В монографии на широком источниковом материале впервые в отечественной историографии исследуются ход, движущие силы и механизмы создания украинской нации в ключевой для этого процесса период – 1920–1930-е годы. Через призму деятельности украинского национального движения анализируются феномен украинского национализма, его идеологическая и мировоззренческая направленность, рассматриваются взаимоотношения украинской, русской и советской идентичностей, излагается идейно-политическая борьба в компартии Украины и Православной церкви. Книга позволяет по-новому взглянуть на современные национальные, культурные, языковые и политические процессы, имеющие место на Украине, выяснить особенности и перспективы российско-украинских отношений.
Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В последующих статьях Н. Бухарин продолжал разрабатывать эту концепцию. Надо отметить, что ход экономического, социального, культурного развития СССР создавал новую реальность, которая служила причиной появления объективных признаков этой общности. На них указал тот же Н. Бухарин. Фундаментом этой общности он считал обобществленное производство и общественную форму собственности. Отсутствие эксплуатирующих классов, изменения в общественном бытии и сознании крестьянства, рабочих, интеллигенции создавали предпосылки для их более тесного объединения «на базе растущего единого социалистического хозяйства». Это было одной из предпосылок создания новой общности людей – многонационального «героического советского народа», как его назвал Бухарин. Другой предпосылкой являлось основанное на той же социально-экономической базе и единстве целей сплочение народов, развивающих свою (ибо национальную по форме) и в то же время общую (ибо социалистическую по содержанию) культуру [1299].
В мае-июне 1936 г. Н. Бухарин констатировал, что в СССР «создается… единый народ, взятый не как этнографическая, а как социальная категория», предстающий, к тому же, как многонациональная общность, то есть «единый и суверенный» народ, «консолидированный и по вертикалям (классы), и по горизонталям (нации)» [1300]. Перечисленные Н. Бухариным признаки (и социально-экономические, и лежащие в национально-культурной сфере) в тот период активно закреплялись в сознании людей, превращались в субъективные символические ценности и таким образом становились объективными признаками новой общности. Внимание к проблеме со стороны руководителей государства ускоряло этот процесс, придавало ему направленность, способствовало формулированию признаков этой национальной общности, которые затем должны были стать ее отличительными чертами.
Однако верно ли название «национальная» для той общности, черты которой обрисовал Бухарин? С определенностью можно утверждать, что нет. Даже сам автор проекта считал советский народ социальной, а не этнографической категорией. Любая нация, любая национальная общность, будучи явлением социально-политическим, тем не менее основывается на этническом фундаменте. Многонациональные сообщества или, лучше сказать, полиэтнические нации (а именно таковыми и является большинство национальных коллективов) также имеют такой этнический фундамент, который создается на основе одного из проживающих в данном государстве этносов: либо наиболее многочисленного, либо наиболее развитого в культурном отношении, либо наиболее энергичного.
Бухаринский «проект», лишенный этнического стержня, не стал, да и не мог стать основой для формирования нового национального коллектива. На социальном, экономическом, половом и т. п. принципах возможно существование социальной группы, класса, касты, общины, которые уже по определению часть, а не целое. «Героический советский народ» в истолковании Бухарина должен был строиться на отрицании культуры, традиций и ценностей народов Советского Союза, и в первую очередь русского народа – того народа, который только и мог стать этническим фундаментом для такой потенциально возможной национальной общности людей. Да и сам Николай Иванович меньше всего подходил на роль идеолога концепции советской нации. Дело в том, что в партийном руководстве Бухарин был одним из наиболее последовательных и решительных борцов против всего национально-русского; он испытывал подлинную ненависть к прошлому России, ее истории, культуре, народным героям. Он стал олицетворением всех антинациональных, антирусских сил не только в компартии, но и во всем левореволюционном лагере. Весьма точно подметил и объяснил отношение Бухарина ко всему русскому еврей-эмигрант М. Агурский, написавший известную книгу о национал-большевизме. «Это не было следствием его функционального положения, – писал Агурский. – Это было нечто экзистенциальное, некая национальная самоненависть, национальный нигилизм» [1301].
Эта национальная самоненависть, описанная еще Ф. М. Достоевским в романе «Бесы», вошла в плоть и кровь значительной части российской интеллигенции, стала внелогической, экзистенциальной подпиткой для различных идей и концепций универсалистского толка – от интернационального левацкого коммунизма до либералистских идей единого мира, отрицающих за Россией право на самостоятельное и самодостаточное существование. А ведь именно интересы страны были для Сталина и его соратников главными.
С вероятностью можно утверждать, что изложенный Н. Бухариным проект не отвечал тем задачам, которые стояли перед страной. Сам ход развития СССР подготавливал появление на свет некоей национальной общности, но общности более привычной и естественной, нежели просто многонациональной (а по сути безнациональной, космополитической) «социальной категории», общности, построенной не на классовом принципе.
Помимо внутренних причин появление советской общности на свет сильнейшим образом подталкивал внешний фактор. Агрессия Японии на Дальнем Востоке и особенно приход в 1933 г. к власти в Германии А. Гитлера и утверждение откровенно антикоммунистического и антироссийского национал-социализма заставили советское руководство резко активизировать поиски дополнительных возможностей сплочения населения вокруг идей, которые бы обладали более высоким объединяющим потенциалом, нежели пропаганда идей классовых в международном и внутреннем масштабе [1302]. Такой универсальной идеей мог стать только патриотизм. Эволюция отношения к нему правящих кругов наглядно отражает те перемены, которые произошли с Советским Союзом в 1930-х гг., и то, по какому сценарию развивались в нем национальные процессы.
И патриотизм (естественно, имелся в виду патриотизм по отношению к России), и даже само это слово в 1920-х гг. стали синонимом косности, национальной ограниченности и великодержавной контрреволюционности. То время, по выражению его главного творца В. Ленина, стало полосой «самого резкого расхождения с патриотизмом» [1303]. Ведь еще К. Маркс говорил, что у пролетариата нет отечества. В нашем случае и патриотизм, и национализм приравнивались друг к другу как вещи, угрожающие пролетарской солидарности и мешающие социалистическому переустройству общества (в масштабах страны или всего мира). Борьба с великодержавным (великорусским) национализмом, поддержка идеологических постулатов национальных движений, национальный федерализм были наглядным проявлением этого, хотя уже с начала 1920-х гг. потихоньку начинает выдвигаться концепция о борьбе на два фронта. Да и сталинская трактовка социализма предусматривала создание, «царства справедливости, способного защитить всех обездоленных на Земле» [1304], прежде всего в СССР, что также имело общие с «традиционным» патриотизмом корни. Завершение полосы «самого резкого расхождения с патриотизмом» произошло в середине 1930-х гг.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: