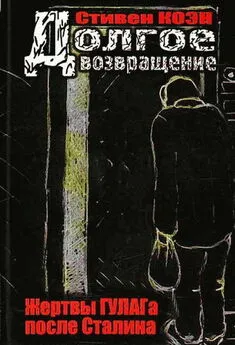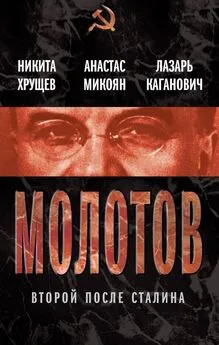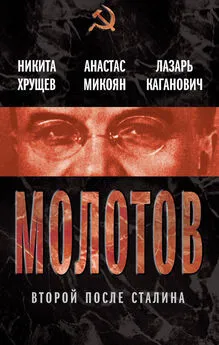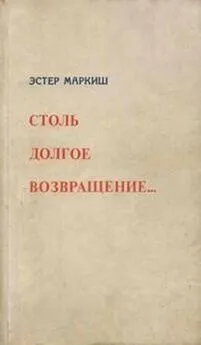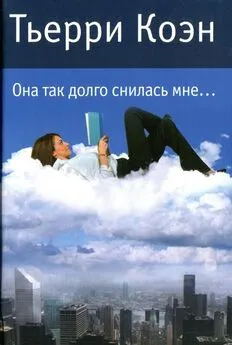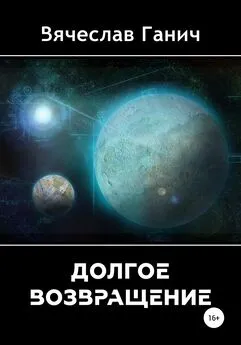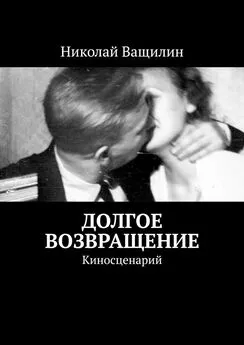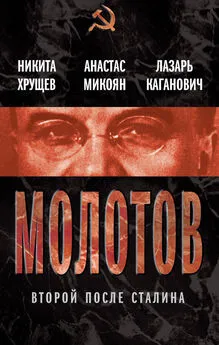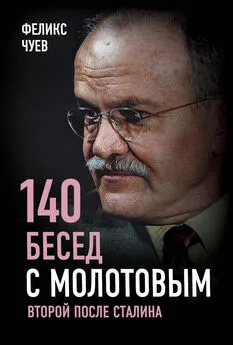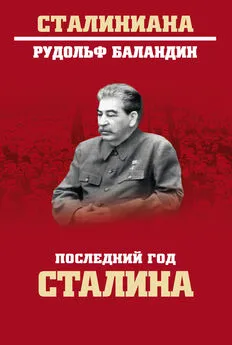Стивен Коэн - Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина
- Название:Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новый хронограф: АИРО-XXI
- Год:2009
- Город:М.
- ISBN:978–5-91022–100–4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стивен Коэн - Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина краткое содержание
В центре внимания нового (или, как выясняется, не очень нового) исследования видного американского историка Стивена Коэна — нелёгкий процесс возвращения и реабилитации жертв сталинского террора. Среди вопросов, волнующих автора: перипетии этого процесса при Хрущёве и после него, роль бывших репрессированных в политике оттепели, а также неоднозначное отношение к ГУЛАГу и гулаговцам со стороны власти и общества в СССР и постсоветской России.
Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ещё одно знаковое публичное мероприятие произошло в 1989 году. Это был памятный вечер в честь Хрущёва — первый после 20 с лишним лет его официальной опалы. Сидя на трибуне вместе с «возвращенцами», у которых я тайком брал интервью десять лет назад, я видел лица множества других таких же бывших зеков в переполненном зале Дома кино. Некоторые из них плакали. Большинство из них теперь знали о тёмной стороне хрущёвской карьеры: о крови на его руках, о том, что он не сказал всей правды о прошлом, о его собственных репрессивных мерах после 1953 года. Но это не уменьшило их благодарности к нему, в выражении которой они были практически единодушны: «Хрущёв вернул мне мою жизнь». Анна Ахматова говорила от лица всех их, заявив много лет назад: «Я — хрущёвка» {132} 132 Цит. по Иванова Н.Б. // Горбачёвские чтения. № 4. — М., 2006. С. 81. Мне не раз доводилось слышать подобные выражения признательности Хрущёву. См. также Орлик Юрий // Известия. 1989. 3 марта; Шатуновская. Об ушедшем веке. С. 430; Каплер. «Я» и «мы». С. 9. В то же время, Шатуновская не смогла простить Хрущёву, даже после его отстранения от власти, что он не убрал из руководства таких сталинистов, как Суслов, и не обнародовал доклад комиссии Шверника. Померанц. Следствие ведёт… С. 140.
.
Так же, как у его предшественника в деле советских реформ, правосудие было «неотъемлемой составной частью» политики Горбачёва. С 1987 по 1990 год официально реабилитированы были ещё миллион человек, а затем, на основании его указа, и все оставшиеся жертвы {133} 133 Реабилитация. Т. 3. С. 507, 521–522. По поводу «составной части» см. Орлик // Известия. 1989. 3 марта.
. Враги Горбачёва, в ответ на эти и другие шаги, пеняли ему на то, что в основе его антисталинизма лежит «идеология бывших зеков», и отчасти, возможно, были правы. Ряд членов его руководства из числа близких и ближайших сподвижников имели репрессированных при Сталине родственников, в том числе, Эдуард Шеварнадзе, Егор Лигачев, Борис Ельцин, Вадим Бакатин, да и у самого Горбачёва оба деда были арестованы в 1930-е годы. (Они уцелели, а вот дед его жены Раисы Максимовны был расстрелян.) {134} 134 См. Горбачёв Михаил. Жизнь и реформы. Т. 1. — М., 1995. С. 38–42; а также Горбачёвские чтения. № 5. С. 114–115. По поводу «идеологии бывших зеков» см. Известия. 1992. 7 мая. См. также недовольное замечание Владимира Карпова насчёт «реабилитационной эйфории» (Касьяненко Жанна // Советская Россия. 2002. 27 июля); Померанц. Следствие ведёт… С. 187; и, без злопыхательства, Меньшиков. О времени. С. 34.
.
Правда, материальных последствий вся эта реабилитационная политика, как правило, не имела. Было несколько счастливых исключений, например, кооперативная дача Леонида Серебрякова, конфискованная Вышинским в 1937 году и сменившая после его смерти в 1954 году нескольких владельцев, включая советского премьер-министра Алексея Косыгина, в конце концов, была возвращена дочери Серебрякова, Зоре. Семье Бухарина незнакомые люди прислали некоторые вещи, конфискованные из его квартиры в 1937 году, а директор одного московского антикварного магазина вывел меня на одну из картин Бухарина, украденную после его ареста. Однако, несмотря на всё внимание и все обещания, выданные Горбачёвым жертвам террора, многие из них продолжали влачить столь бедственное состояние, что одна из организаций бывших узников опубликовала в 1990 году «СОС с архипелага Гулаг» с призывом о частных пожертвованиях. Между тем, финансово несостоятельное, на глазах рассыпающееся правительство Горбачёва, каким оно было в 1991 году, было в принципе не способно обеспечить выплату тех компенсаций и льгот, которые были им гарантированы законодательно {135} 135 Реабилитация. Т. 3. С. 7–8. По поводу дачи см. Челищева Вера // Новая газета. 2008. 7–9 июля; а по поводу «СОС» — Комсомольская правда. 1990. 26 сентября.
. Размытость статуса жертв советской эпохи перекочевала и в постсоветскую Россию. Её первый президент Ельцин формально реабилитировал всех граждан, пострадавших от политических репрессий, начиная с октября 1917 года (то есть, не только сталинских), а затем включил в эту категорию и их детей, распространив на них право на компенсации {136} 136 Реабилитация. Т. 3. С. 600–606; Adler. Gulag Survivor. P. 33. По поводу постсоветского периода вообще см. ibid. Chap. 7; Adler. The Future of the Soviet Past Remains Unpredictable // Europe-Asia Studies. Dec. 2005. P. 1093–1119.
. Вдобавок, Ельцин объявил 30 октября днем национальной скорби по жертвам и принял закон о допуске бывших репрессированных и их родственников к их делам в ранее закрытых секретных архивах. (Было бесконечно трогательно наблюдать, как эти пожилые люди в читальном зале Лубянки, где я работал по поручению семьи Бухариных, изучают потрепанные папки, содержащие документальные свидетельства их собственной судьбы или открывающие страшные подробности судеб их близких.)
Вообще, сюжеты об эпохе террора стали привычным аспектом постсоветской популярной культуры, включая её главный медиаресурс — телевидение. Общество «Мемориал» превратилось во всероссийскую и даже международную структуру, ведущую всё более широкий поиск массовых захоронений, помогающую возводить памятники на территории Гулага и издающую ценные документальные исследования о судьбах жертв и их палачей. Во многих провинциальных российских городах были опубликованы свои мартирологи. А в 2004 году Антонов-Овсеенко, при поддержке столичного мэра Юрия Лужкова, открыл в центре Москвы, на Петровке, первый официальный (и пока ещё мало известный) Музей истории Гулага.
С другой, отрицательной, стороны, мало кто из ещё оставшихся в живых бывших узников Гулага получил реальные, сколько-нибудь значимые компенсации за утраченную жизнь и собственность. К 1993 году интерес к сталинскому террору и его жертвам в российском обществе претерпел «катастрофический упадок» {137} 137 B.C. // Независимая газета. 1993. 21 сентября. Подробнее об этой проблеме см. Мир после Гулага.
. [32] Один «возвращенец», который возглавлял в начале 1990-х годов московскую городскую комиссию по реабилитации, вспоминал, что льготы и пособия были «громадной проблемой». Фельдман А. Рядовое дело. — М., 1993. С. 58–60.
Национальный мемориал, обещанный Хрущёвым в 1961 году и одобренный Горбачёвым в конце 1980-х, так и не был построен. К началу XXI века и в официальных кругах, и в массовом сознании значительно усилились просталинские настроения, одна за другой выходили отлакированные биографии одиозных энкаведешников, и всё больше людей откровенно заявляли, что никакого Гулага не было и надо покончить с «реабилитационной эйфорией». Всё чаще люди говорили (и, видимо, верили), что в Гулаге сидели сплошь уголовники, потому что «Сталин не репрессировал никого из честных граждан», а не терпевшего зависимости Солженицына и после его смерти продолжали поносить как агента «мощной идеологической машины Запада» {138} 138 См., соответственно, выше, прим. 147; Книжное обозрение. 2003. № 40. С. 7; Рыбин А.Т. Сталин в октябре 1941 года. — М., 1995 С. 5; а также Стригин Евгений. Предавшие СССР. — М., 2005. С. 181–185. По поводу Солженицына см.: Раззаков Федор // Советская Россия. 2008. 14 августа.
.
Интервал:
Закладка: