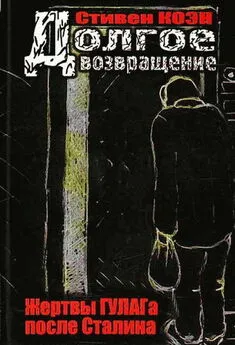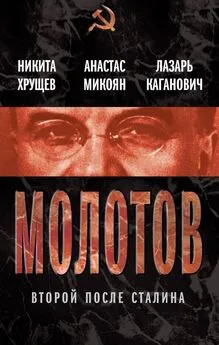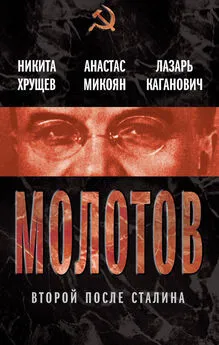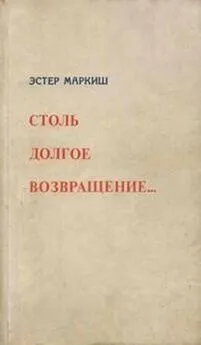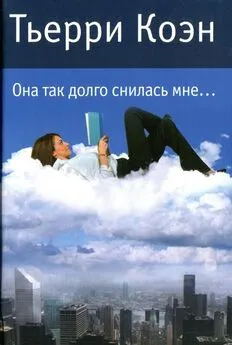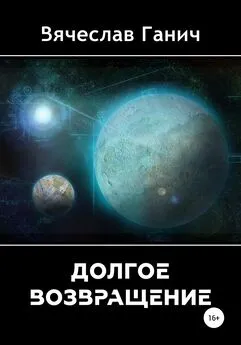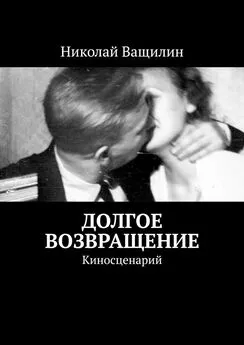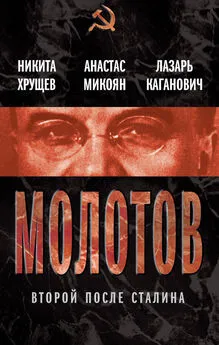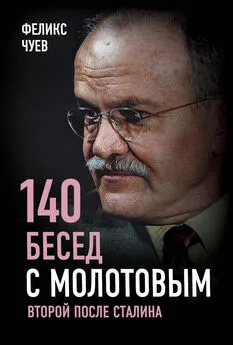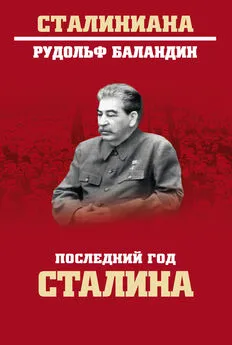Стивен Коэн - Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина
- Название:Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новый хронограф: АИРО-XXI
- Год:2009
- Город:М.
- ISBN:978–5-91022–100–4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стивен Коэн - Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина краткое содержание
В центре внимания нового (или, как выясняется, не очень нового) исследования видного американского историка Стивена Коэна — нелёгкий процесс возвращения и реабилитации жертв сталинского террора. Среди вопросов, волнующих автора: перипетии этого процесса при Хрущёве и после него, роль бывших репрессированных в политике оттепели, а также неоднозначное отношение к ГУЛАГу и гулаговцам со стороны власти и общества в СССР и постсоветской России.
Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
{5} 5 Солженицын Александр. Архипелаг Гулаг. 7 частей в 3-х томах. — Paris, 1973–75. Т. 3. С. 466–492..
Это означало, что я должен был опираться преимущественно на первичные источники. За границей был опубликован ряд бесцензурных воспоминаний бывших гулаговцев, но они имели ограниченную ценность. Большинство из них относилось к периоду до 1953 года и принадлежало перу репатриированных иностранцев, чей последующий опыт не был типичен для бывших советских узников или мало что говорил о жизни после Гулага {6} 6 См. Zorin Libushe. Soviet Prisons and Concentration Camps: An Annotated Bibliography. — Newtonville, 1980. Было и два важных исключения: Гинзбург Евгения. Крутой маршрут. — Смоленск, 1998. Ч. 2 и 3 и Солженицын Александр. Бодался теленок с дубом. — Paris, 1975.
. Были, однако, ещё два источника информации, оба советские и важные, до сих пор мало используемые западными исследователями.
Первый — внушительная по объёму литература на «лагерную тему», в том числе художественные произведения, опубликованные в период относительного цензурного послабления хрущёвской «оттепели». Ошибочно полагают, будто таких текстов даже в то время было мало — в литературе, мол, лишь один солженицынский «Один день Ивана Денисовича» — или что они не заслуживают внимания по причине своей «советскости» {7} 7 Дариуш Толчик (Tolczik Dariusz. See No Evil. — New Haven, 1999. P. xix-xx. Chap. 4–5.) пишет о том же, но исходя из идеологических позиций, которые сужают круг гулаговских авторов до одного Солженицына. См. также Toker Leona. Return From the Archipelago. — Bloomington, IN, 2000.
. [2] Варлам Шаламов, возможно, величайший из лагерных писателей, был против такого пренебрежительного подхода к другим авторам. См. его письмо Солженицыну: Независимая газета. 1998. 9 апреля.
Многочисленные заметки и наблюдения о сталинском терроре, включая воспоминания выживших узников Гулага, были опубликованы в официальной печати, причём не только московской. С подсказки «возвращенцев», я обнаружил залежи информации в журналах, издаваемых в отдалённых советских регионах (Сибирь, Казахстан), где была высока концентрация лагерного и ссыльного населения, значительная часть которого там и осела после освобождения. Доставать такие журналы, как «Сибирские огни», «Байкал», «Простор», «Ангара», «Урал», «Север», «Полярная звезда», «На рубеже» и «Дальний Восток», было нелегко, но результат с лихвой окупал затраченные усилия [3] Некоторые из них я читал в Ленинской библиотеке в Москве, другие — в американских университетских библиотеках.
.
Другой письменный советский источник был полностью неподцензурным и включал в себя растущий пласт литературных сочинений, ходящих по рукам в машинописном виде (самиздат) или тайком вывезенных за границу и изданных там (тамиздат). К 1970-м годам все эти проявления неофициальной гласности: истории, мемуары, современные политические и социальные комментарии, документы, художественные произведения и прочее, — должны были стать обязательным чтением для большинства советологов, как они стали для меня [4] Радио «Свобода» в Мюнхене составляло непрерывно пополняемый каталог — «Архив самиздата».
. Ведь в центре этой литературы была эпоха террора — темы, реалии и сами авторы — бывшие зеки.
Больше всего, однако, я опирался на личные свидетельства сталинских жертв, с которыми меня сводила судьба. Поначалу я знакомился с ними через семью Бухарина, но очень скоро у меня появились в Москве ещё три уникальных канала знакомств. Два из них — историки-диссиденты, с которыми у меня на долгие годы установились тесные личные и профессиональные отношения: Рой Медведев, чей отец погиб в лагере, и Антон Антонов-Овсеенко, потерявший обоих родителей в годы террора и сам отсидевший 13 лет в Гулаге {8} 8 См. Medvedev Roy and Chiesa Giulietto. Time of Change. New York, 1989. P. 99–100; а также Антонов-Овсеенко А.В. Враги народа. — M., 1996. С. 367. По поводу моих отношений с Медведевым см. нашу с ним беседу: Новая и новейшая история. 2006. № 2. С. 94–101.
. Пользовавшиеся уважением и доверием многих бывших репрессированных, Рой и Антон уговорили некоторых из них помочь мне.
Моим третьим каналом стала Татьяна Баева — замечательная молодая женщина, одна из активисток подвергавшегося травле московского движения за права человека, в рядах которого были как сами «возвращенцы», пережившие ужас двадцатилетнего сталинского террора, так и взрослые дети тех, кто не дожил до возвращения. Отец Татьяны, Александр Баев, всемирно известный биохимик, осыпанный почестями и занимавший высокий пост в советской Академии наук, в своё время провёл 17 лет в сталинских лагерях и ссылке, где и родилась его дочь {9} 9 Рассказать историю своей жизни Баев решился только много лет спустя. См. Академик Александр Баев. Под ред. А.Д. Мирзабекова. М., 1997. Гл. 1.
. (Малоизвестный, но существенный факт: знаменитая «демонстрация семи на Красной площади» в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968 года на самом деле была «демонстрацией восьми». Восьмой была 21-летняя Таня Баева, чьё имя было вычеркнуто из заведённого КГБ дела из-за высокой должности отца.) Моя дружба с Таней ввела меня ещё в один круг людей, чей личный опыт был для меня так важен.
За два года периодических посещений Москвы я имел личные контакты с более чем двадцатью бывшими узниками Гулага или близкими родственниками жертв — помимо членов семьи Бухарина [5] Кроме того, я получил на хранение от первой жены Солженицына, Натальи Решетовской, экземпляр её неопубликованных воспоминаний (более 2200 страниц), где рассказывалось об истории ещё нескольких освобожденных зеков.
. Среди них были те, чьи имена, без сомнения, будут знакомы многим русским читателям: Юрий Айхенвальд, Игорь Пятницкий, Лев Копелев, Михаил Байтальский, Юрий Гастев, Павел Аксенов, Евгений Гнедин, Камил Икрамов, Наталья Рыкова, Леонид Петровский. Позже, после моего трёхлетнего вынужденного отсутствия в России, к ним добавились и другие люди, также с гулаговским прошлым, в том числе Лев Разгон, много лет отсидевший в лагере, драматург Михаил Шатров (племянник бухаринского соратника и товарища по несчастью Алексея Рыкова), чья семья заметно поредела в годы террора, и Александр Мильчаков, чей отец (тоже Александр), прежде чем угодить на долгие годы в Гулаг, занимал высокий пост в комсомоле.
Интервал:
Закладка: