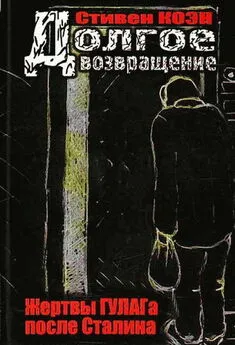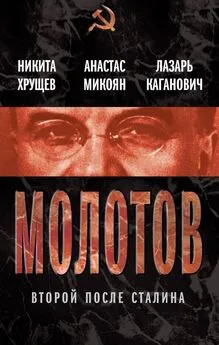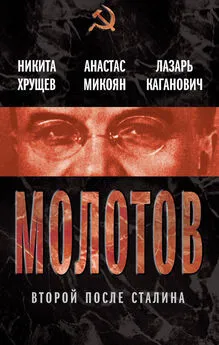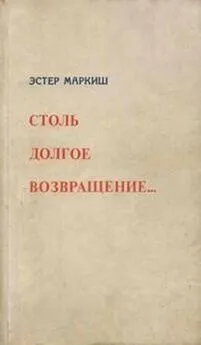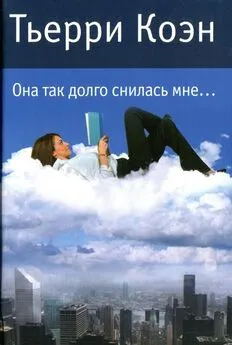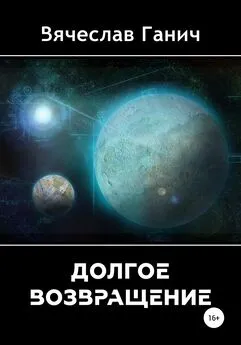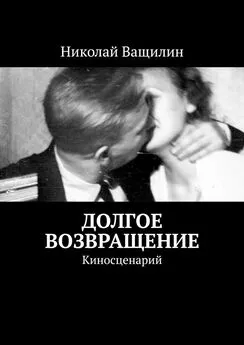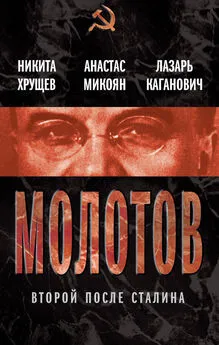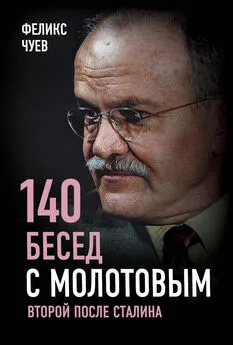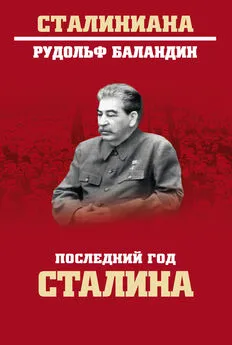Стивен Коэн - Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина
- Название:Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новый хронограф: АИРО-XXI
- Год:2009
- Город:М.
- ISBN:978–5-91022–100–4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стивен Коэн - Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина краткое содержание
В центре внимания нового (или, как выясняется, не очень нового) исследования видного американского историка Стивена Коэна — нелёгкий процесс возвращения и реабилитации жертв сталинского террора. Среди вопросов, волнующих автора: перипетии этого процесса при Хрущёве и после него, роль бывших репрессированных в политике оттепели, а также неоднозначное отношение к ГУЛАГу и гулаговцам со стороны власти и общества в СССР и постсоветской России.
Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А самое главное, о возвращении и судьбах бывших узников Гулага до сих пор поразительно мало известно — по сравнению, например, с теми же жертвами Холокоста. Их эпопея «часто игнорируется», как заметил один из современных исследователей Гулага, даже в книгах по истории Советского Союза {17} 17 Applebaum Anne. Gulag. — New York, 2003. P. 515.
. За годы, прошедшие с хрущёвской оттепели, «возвращенцы» время от времени фигурировали на страницах художественных произведений русских и зарубежных авторов («Всё течет» Василия Гроссмана, «Ожог» Василия Аксенова, «Пушкинский дом» Андрея Битова, «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, «Дом свиданий» Мартина Амиса); был опубликован ряд мемуаров об их жизни после Гулага; их свидетельства послужили материалом для нескольких западных монографий на более широкие темы {18} 18 В качестве примеров воспоминаний, в дополнение к тем, что были упомянуты в прим. 7, см. Туманова Анна. Шаг вправо, шаг влево… — М., 1995; Мильчаков Александр. Молодость светлая и трагическая. — М., 1988; Негретое Павел. Все дороги ведут на Воркуту. — Benson, VT, 1985; Жигулин Анатолий. Черные камни. — М., 1989; Миндлин Михаил. Анфас и профиль. — М., 1999 и Шатуновская Ольга. Об ушедшем веке. — La Jolla, CA, 2001. Большинство мемуарных свидетельств, однако, по-прежнему касаются жизни в Гулаге, как, напр., собранные в книге Vilensky Simeon, ed. Till My Tale Is Told. — Bloomington, IN, 1999. По поводу общих работ западных исследователей см. выше, прим. 8 и 21, а также Hochschild Adam. The Unquiet Ghost. — New York, 1994; Monteflore Simon. Stalin. — London, 2003; Smith Kathleen. Remembering Stalin's Victims. — Ithaca, 1996; Merridale Catherine. Nights of Stone. — New York, 2001; and Figes. The Whisperers.
.При этом, несмотря на наличие крупных хранилищ рукописей, особенно тех, что имеются в распоряжении обществ «Мемориал» и «Возвращение» в Москве, и тома опубликованных архивных документов, книга Адлер остается единственным всеобъемлющим исследованием опыта бывших гулаговцев — причём, что особенно необъяснимо, даже в России [7] Это замечание относится к 2005 году, когда вышло русское издание книги Адлер. В настоящее время она продолжает своё исследование, сосредоточившись на изучении отношения бывших политзаключенных к КПСС, а в 2006 году в Гарвардском университете состоялась посвященная Гулагу и «возвращенцам» конференция, по итогам которой, возможно, будет издан сборник статей. Соответствующий раздел книги Файджеса (The Whisperers, chap. 8), хотя и носит слишком обобщающий и не вполне объективный характер, также представляет определённую ценность. Что касается русских исследований, то в них этой теме посвящено лишь несколько страниц. См., напр., Zubkova Elena. Russia After the War. — Armonk, 1998; Мир после Гулага. — СПб., 2004. По поводу архива «Мемориала» см. Мемуары о политических репрессиях в СССР, хранящиеся в архиве общества «Мемориал»: Аннотированный каталог. — М., 2007. По поводу сборников архивных документов см. Реабилитация. В 3-х томах. — М., 2000–2004 и Дети Гулага. — М., 2002, изданные под общей редакцией А.Н. Яковлева. Среди наиболее полно документированных случаев возвращения — семья Бухарина. См. Ларина-Бухарина. Незабываемое; Юнге Марк. Страх перед прошлым. — М., 2003; Бухарин В.И. Дни и годы. — М., 2003; Россия и Европа. № 4. Под ред. А.С. Намазовой (о дочери Н.И. Бухарина С. Гурвич) и моё предисловие к англоязычному изданию тюремного романа Бухарина: Nikolai Bukharin. How It All Began. — New York, 1998.
.
Достоинства моей работы, пускай и более скромные, заключаются, возможно, в том, что в ней представлены, в относительно сжатом виде, политическое и социальное измерения этого явления. Кроме того, поскольку большую часть своего исследования я проделал по более горячим следам, в ту пору, когда те события ещё не стали полностью историей и когда многие репрессированные (и их палачи) ещё были живы, мой угол зрения на проблему — «возвращенцев» и на общество и систему, с которыми они сталкивались, возвращаясь, — несколько отличается от тех, под которыми их рассматривали Адлер и другие авторы.
В основе своей, темы и сюжеты данной публикации повторяют те, что были в первоначальном варианте статьи 1983 года, однако я существенно расширил их за счёт фактических данных, накопленных мною с тех пор. (Большинство примечаний содержат библиографию соответствующих публикаций, появившихся после 1983 года, многие из которых я читал в рукописи до того, как они смогли увидеть свет.) Эти новые материалы позволили мне сделать какие-то моменты моего повествования более полными или более наглядными, по сравнению с первоначальной версией статьи, а также, при сохранении главного фокуса на времени Хрущёва, добавить продолжение, включающее обзор дальнейших судеб «возвращенцев» и прочих жертв от 1964 года до наших дней.
Но даже сегодня, однако, я не называю имен всех тех, кто, положившись на моё обещание конфиденциальности, снабжал меня сведениями в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Хотя большинства из них уже нет в живых, я предпочитаю сохранить инкогнито ряда личностей — отчасти из-за неопределённости ситуации в сегодняшней России, а, возможно, просто потому, что не люблю изменять данным обещаниям и некогда усвоенным привычкам.
Освобождение
Узники, возвращавшиеся из Гулага, были выжившими, в полном смысле слова — такими же, как те, кто вернулся живым из нацистских лагерей смерти. (Даже советские газеты впоследствии обвиняли Сталина в «геноциде своего народа».) {19} 19 Александр Прошкин // Советская культура. 1988. 30 июня.
И хотя, в отличие от гитлеровских лагерей, главной целью сталинских был принудительный труд, а не умерщвление, обращение и условия содержания в Гулаге и в огромной системе связанных с ним тюрем, этапов, колоний и спецпоселений были зачастую убийственными. Многие из тех 12–13 миллионов (а может быть, значительно большего числа) жертв, затянутых в недра этой системы в период между началом 1930-х и началом 1950-х годов, умерли там или были отпущены умирать на свободу [8] Не существует единого мнения по поводу того, сколько узников прошли через Гулаг за этот период, хотя в России и на Западе на этот счёт имеется весьма обширная (и противоречивая) литература (среди главных проблем — соотношение политических и уголовных элементов и количество повторных попаданий в лагерь). Я использую цифру, возможно, не новую и не окончательную, которую в последние годы приводит общество «Мемориал». Я также благодарен Стивену Уиткрофту и Александру Бабёнышеву (Максудову) за экспертную консультацию, хотя их цифры несколько другие.
. Большинство освобожденных в 1950-е годы были арестованы в 1940-е, то есть провели в лагерях «только» десять лет и меньше.
Факт выживания поэтому стал непростой и мучительной темой для тех, кто вернулся из Гулага — такой же мучительной, как для жертв нацистских лагерей {20} 20 См., напр., Шаламов Варлам. Колымские рассказы. — London, 1978; Гинзбург. Крутой маршрут. Ч. 2 и 3; Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича // Новый мир. 1962. № 11; Дьяков Борис. Повесть о пережитом. — М., 1966, а также Литературная газета. 2007. 4–10 июля.
. Кто выжил и почему? Одни выстояли, потому что были сильны духом и телом или так сложились обстоятельства: работа досталась менее тяжёлая или досрочно выпустили на поселение. Другие уцелели, став стукачами и сотрудничая, тем или иным способом, с лагерной администрацией. Многие из «возвращенцев», с которыми я беседовал, не желали говорить на эту тему, а если и говорили, то без упрёков в чей-либо адрес, но были и такие, которые обвиняли солагерников в продажном поведении и хотели, чтобы я также осудил их. (Один бывший зек показал мне семейный альбом с фотографиями 1930-х годов, из которого его жена, в отчаянной, но тщетной попытке спасти свою жизнь, грубо вырвала все карточки с изображением арестованного мужа — продиктованный паникой, нередкий поступок в годы террора {21} 21 См., напр., Кинг Дэвид. Отретушированная история. — Будапешт, 2002, а также Флиге Ирина // Горбачёвские чтения. 2007. № 5. С. 132; Яковлева Т. // Комсомольская правда. 1989. 12 июля.
. «Вот так же она вела себя и в лагере», — добавил затем этот человек.) Я последовательно избегал выносить подобные суждения, объясняя, что никогда не сталкивался с подобной ситуацией, где речь бы шла о выборе между жизнью и смертью, и потому не знаю, как я сам повел бы себя в тех обстоятельствах.
Интервал:
Закладка: