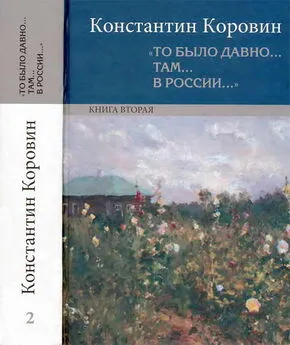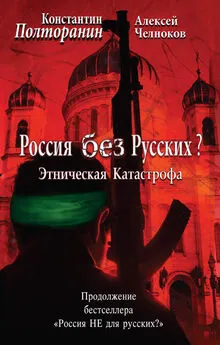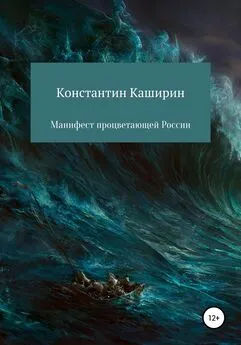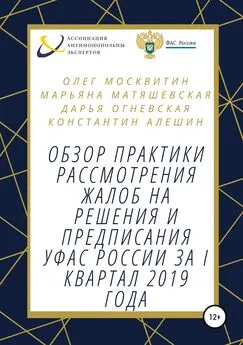Константин Битюков - Великокняжеская оппозиция в России 1915-1917 гг.
- Название:Великокняжеская оппозиция в России 1915-1917 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Астерион»f0edbaa9-50c8-11e2-956c-002590591ea6
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94856-562-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Битюков - Великокняжеская оппозиция в России 1915-1917 гг. краткое содержание
Работа посвящена политико-административной элите России начала XX века, неотъемлемой частью которой являлись великие князья. В ходе работы изучены причины и эволюция политических взглядов великих князей, результатом которой стал их переход от опоры монархии к оппозиции. Великокняжеская оппозиция рассматривается как элемент политического кризиса в Российской империи в 1915–1917 гг.
Для историков и широкого круга читателей.
Великокняжеская оппозиция в России 1915-1917 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Некоторый свет на размышления Николая Михайловича проливают рекомендации, которые он давал собственным кандидатам. Так, своего кандидата от военного ведомства – генерала Ф.А. Головина – он выделил за «смелые мысли», которые «напугали нашу академию генерального штаба». Характеризуя адмирала Канина, он ссылался на анонимные «хорошие отзывы», которые «менее единодушны» о другом вероятном представителе морского ведомства – адмирале А.И. Русине. Финансовый вопрос великий князь предоставил решать «самому» министру финансов П.Л. Барку и государственному контролеру Н.Н. Покровскому [224]. При выборе этих кандидатур Николай Михайлович остался верен себе: независимость и образованность для него стояли выше других качеств, но одновременно это служило причиной нереальности его планов, поскольку предлагавшиеся им лица ни серьезным влиянием, ни достаточным политическим весом, за исключением, может быть, П.Л. Барка, не обладали. Решение о создании комиссии для подготовки мирной конференции Николай II отложил. Итогом этой апрельской недели как отправной точки эволюции взглядов Николая Михайловича стало то, что Николай II стал по крайней мере выслушивать его советы и рекомендации.
К идее подготовки послевоенной мирной конференции Николай Михайлович вернулся лишь в письме от 26 июля, то есть после увольнения «Сазончика», как он едко назвал бывшего министра иностранных дел. На этот раз великий князь изменил тактику и, не заговаривая более о своем членстве в комиссии, пытался при случае продемонстрировать свою компетенцию в вопросах внешней политики. Так, в письме от 26 июля он писал о плане работ на будущей конференции [225], в письме от 13 августа критично оценивал союзных послов в Петербурге, с которыми встречался [226], а 20 августа, то есть после вступления в войну Румынии, он отправил императору записи своих бесед с политическим руководством этой страны в 1912(!) г. [227]Свои мысли по поводу будущей конференции и впечатления от встреч с дипломатами великий князь излагал и в письмах от 27 августа и 17 сентября [228].
На этом втором этапе плодом его размышлений стали не только вышеперечисленные письма, но и записка, представленная им Николаю 21 сентября. Эта записка – важнейший пункт его эволюции на пути к ноябрьской беседе с Николаем II. Во-первых, он изложил в нем подробный план работы комиссии состоявший из 17 пунктов. Они включали в себя все основные вопросы, обсуждавшиеся спустя полтора года в Версале, но уже без участия России.
Во-вторых, несколько изменился состав членов, предлагавшихся от министерств: «хорошо обо всем осведомленный и ныне вполне свободный» генерал М.А. Беляев, адмирал А.И. Русин или адмирал М.Н. Муравьев от флота, С.Г. Федосьев от министерства финансов, Н.Н. Шебеко или князь Григорий Трубецкой от министерства иностранных дел. Эти кандидатуры были более приемлемы для высшей власти, да и выбирались они теперь по принципу «симпатичности» царю [229].
В-третьих, – и это главное изменение – он предложил ввести в состав комиссии по два лица как от Государственного совета, так и от Государственной думы. Выбор Николая Михайловича говорит о его полной неосведомленности об отношении Николая II к этим политическим деятелям. Это подтверждается и собственными словами великого князя («не ведаю, насколько они тебе симпатичны») [230]. Предложенные им от Государственного совета А.Д. Самарин и А.Н. Наумов были уволены императором под давлением его супруги и Г.Е. Распутина. Предлагавшийся от Думы Н.Н. Львов, будучи близким Николаю Михайловичу, не вызывал подобных чувств у императора, а В.В. Шульгин, несмотря на то что был националистом, тесно сотрудничал с «революционером» П.Н. Милюковым, о чем царской чете было также известно.
Тем не менее подобная форма совместной работы комиссии, в которой сотрудничали бы члены как от правительства, так и от «общества», могла стать прообразом «ответственного министерства», которое великий князь предложил Николаю II ввести спустя полтора месяца. Более того, почти все кандидатуры Николая Михайловича вскоре стали играть заметную роль на политическом небосклоне: 30 ноября М.А. Беляев стал военным министром, а С.Г. Федосьев – государственным контролером. Тогда же предлагавшийся им ранее как финансист Н.Н. Покровский стал министром иностранных дел. Примечательно, что как достоинство вышеназванных кандидатов Николай Михайлович отмечал то, что все они – русские. Такое замечание могло быть намеком на неблагоприятное отношение общественного мнения к «немецкости» Б.В. Штюрмера.
Что касается основного пункта известного «первоноябрьского» письма 1916 г. к Николаю II с требованием ограничения влияния императрицы Александры Федоровны на политическую жизнь страны, то его позиция также была выражена великим князем Николаем Михайловичем, но уже в переписке с вдовствующей императрицей Марией Федоровной.
Из четырех писем к императрице-матери за февраль – сентябрь 1916 г. политические темы затронуты лишь в двух – от 28 июля и 13 августа [231]. Размышления о пагубном влиянии императрицы начались в июле 1916 г. Великий князь Николай Михайлович подогревал недовольство вдовствующей императрицы к невестке во всех письмах начиная с 28 июля, то есть после того, как ему было отказано в участии в подготовке к будущей мирной конференции.13 августа в послании к вдовствующей императрице он писал об Александре Федоровне: «Образ мыслей А.Ф. принял угрожающий оборот не только для повседневных интересов нашей родины, но и для интересов Ники и всей династии» [232]. Также великий князь очень категорично высказывался о Б.В. Штюрмере: «И такой человек сосредотачивает в своих руках всю полноту власти в момент, когда нельзя допускать оплошностей. Необходимо во что бы то ни стало и без промедления убрать его с поста, иначе он способен наделать непоправимых ошибок. И это Вы должны открыть глаза Ники» [233]. Начиная же с письма от 30 октября все события в письмах Николая Михайловича пронумерованы. Это может означать, что мать императора просила великого князя Николая Михайловича держать ее в курсе событий. Между великим князем и вдовствующей императрицей возникло взаимопонимание на почве неприязни к Александре Федоровне.
Таким образом, выступление великого князя Николая Михайловича перед императором 1 ноября 1916 г. и его знаменитое первоноябрьское письмо не были спонтанными поступками человека, действующего под влиянием внешних факторов, как заявляли некоторые историки, например С.П. Мельгунов [234]. Наоборот, можно говорить о том, что основные элементы первоноябрьского письма, за небольшим исключением, уже были в его предыдущих посланиях.
В ходе Первой мировой войны, особенно с началом в 1915 г. политического кризиса как результата «великого отступления», лидеры Николаевичей и Михайловичей начинают эволюционировать в сторону открытой оппозиции самодержавию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: