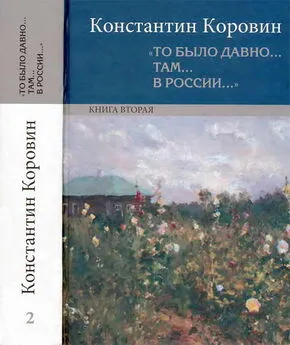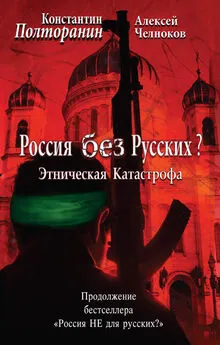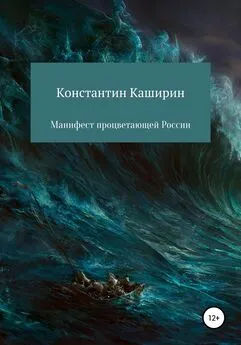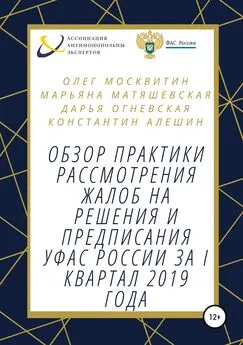Константин Битюков - Великокняжеская оппозиция в России 1915-1917 гг.
- Название:Великокняжеская оппозиция в России 1915-1917 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Астерион»f0edbaa9-50c8-11e2-956c-002590591ea6
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94856-562-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Битюков - Великокняжеская оппозиция в России 1915-1917 гг. краткое содержание
Работа посвящена политико-административной элите России начала XX века, неотъемлемой частью которой являлись великие князья. В ходе работы изучены причины и эволюция политических взглядов великих князей, результатом которой стал их переход от опоры монархии к оппозиции. Великокняжеская оппозиция рассматривается как элемент политического кризиса в Российской империи в 1915–1917 гг.
Для историков и широкого круга читателей.
Великокняжеская оппозиция в России 1915-1917 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Копия письма С.Н. Васильчиковой была показана графине Е.А. Воронцовой-Дашковой, вдове бывшего министра двора, в совершенстве знавшей придворный этикет, которая не нашла в нем ничего оскорбительного [439]. В поддержку С.Н. Васильчиковой выступили и придворные дамы. Проект коллективного обращения составила М.Г. Балашова, супруга лидера Всероссийского национального союза П.Н. Балашова (сосланный князь Б.А. Васильчиков был тесно связан с последним, так как являлся председателем околопартийной общественной организации Всероссийского национального клуба). Под письмом жены депутата подписалось, по некоторым сведениям, до двухсот человек. Однако сам текст обращения был либо потерян, либо оказался в руках полиции [440]. Подписи собирались среди членов еще одной околопартийной общественной организации – Дамского комитета, созданного с началом войны для помощи раненым и основавшего на собственные средства госпиталь в Царском Селе. Членом этого комитета являлись и княгиня С.Н. Васильчикова, и М.Г. Балашова, а покровительство госпиталю оказывала лично Александра Федоровна. Подобная совместная деятельность и дала княгине С.Н. Васильчиковой право обратиться напрямую к императрице.
Удаление Васильчиковых из Петрограда придало письму, и так получившему широчайшую огласку, еще большую остроту. Так, мать будущего убийцы Г.Е. Распутина княгиня З.Н. Юсупова, которой в это время не было в Петрограде, 11 декабря писала сыну: «Как это ты нам не пишешь про возмутительный случай с Васильчиковой? Неужели это так останется без ответа? Общество так и проглотит пощечину и раболепно смолчит! – Это будет прямо позор. Я жалею, что меня нет в Петрограде, я бы не допустила этого равнодушия! – Здесь все довольны, что я не там, зная, что я могла бы делать на месте! Но я прямо волнуюсь, как в кипятке, и проклинаю атмосферу, в которой я живу и которая связывает мне руки и ноги» [441]. Письмо С.Н. Васильчиковой получало явно большее значение, чем того заслуживало, и начало обрастать недостоверными слухами.
Однако в обществе появляются и элементы политической апатии. Так, в перлюстрированном письме от 7 декабря член Государственной думы П.А. Скопин писал, что «Дума, к сожалению, разъединена. Везде борьба: при дворе распутинцы и противники их, пока разбитые наголову и таящиеся, ибо открытое выступление вроде княгини Васильчиковой кончается высылкой, в правительстве – Трепова с Протопоповым, за которого держатся верхи и которого Трепов с Думой при обоюдных усилиях свалить не могут» [442].
Вслед за историей с письмом С.Н. Васильчиковой еще один член семьи Балашовых – Н.П. Балашов – отец думского лидера правых, свояк уже упоминавшейся выше графини Е.А. Воронцовой-Дашковой, обер-егермейстер (первый чин) двора, – написал письмо лично Николаю II, «чуть ли не на десяти страницах» [443], но безрезультатно. Об этом Александра Федоровна узнала от А.А. Вырубовой уже после отъезда Николая II в Ставку. Последняя писала, что «у Государыни тряслись руки, пока она читала» [444].
Императрица Александра Федоровна считала, что и Балашов-старший, и князь Б.А. Васильчиков, и великий князь Николай Михайлович общаются в Яхт-клубе. Она потребовала от царя объявить Балашову выговор, так же как он был объявлен Васильчикову [445], а, по некоторым сведениям, даже сослать в Сибирь, «и лицам, ее окружающим, которые понимали всю невозможность подобной расправы, стоило большого труда убедить государыню не настаивать на этом» [446]. Но ни выговора, ни ссылки не последовало.
Заметим, что царица не ошибалась, утверждая то, что Николай Михайлович общался с князем Б.А. Васильчиковым и Н.П. Балашовым в Яхт-клубе. Они посещали этот аристократический клуб и, несомненно, встречались с великим князем, который был там завсегдатаем. Но в эти дни Николая Михайловича в Петрограде не было. В конце ноября великий князь находился уже под Баку (на охоте), а в своем послании к вдовствующей императрице Марии Федоровне упомянул о том, что между 12 и 16 декабря получил письмо от Б.А. Васильчикова, который «полностью отдался своей супруге и хочет продлить пребывание в деревне [т. е. ссылку]. Кисло-сладкий дурак» [447]. Столь непочтительный отзыв позволяет считать, что хотя воззрения и характер действий этих лиц были схожи, в данном эпизоде они не действовали заодно.
В это же время оппозиционные речи начали произноситься и в Государственном совете (речь А.Д. Голицына 27 ноября), и на Съезде объединенного дворянства, проходившем 29 ноября – 4 декабря (речи В.И. Гурко, А.Д. Олсуфьева и В.Н. Львова).
30 ноября – 1 декабря 1916 г. в Петрограде находилась с визитом прибывшая из Москвы великая княгиня Елизавета Федоровна, родная старшая сестра императрицы и вдова дяди царя, великого князя Сергея Александровича.
Требования, с которыми она обратилась к императрице, очень схожи с тем, что высказывали великие князья в ноябре 1916 г. Это дает право предположить, что она была прекрасно осведомлена о ноябрьском великокняжеском штурме власти. Непосредственным же толчком к личному визиту в Царское Село послужил, вероятно, приезд в Москву ее воспитанника великого князя Дмитрия Павловича. Мария Павловна (младшая) вспоминала, что Дмитрий был у великой княгини Елизаветы в Москве и пытался получить ясные представления о психическом состоянии императрицы. «Только после этого, убедившись, что надежд на нормальный исход мало, он решился присоединиться к тем немногим людям, которые решили добиться такого исхода… Повидав Дмитрия и взвесив ситуацию со всех сторон, она решила сделать последнюю попытку повлиять на императорскую чету» [448]. О ее визите в Царское Село знал и другой участник заговора, Ф.Ф. Юсупов [449].
Впрочем, генерал-майор А.И. Спиридович утверждал, что о «старце» великая княгиня знала «зачастую даже с преувеличением от С.И. Тютчевой», бывшей фрейлины императрицы, удаленной от двора за антираспутинские речи [450].
Прибыв в Царское Село 30 ноября в 3 часа 20 минут дня [451], Елизавета Федоровна сразу направилась во дворец для разговора с императрицей, «со всей любовью к ней стараясь убедить ее в слепоте и умоляя выслушать ее предостережения ради спасения семьи и страны» [452]. А.И. Спиридович утверждал, что сестра Александры Федоровны хотела говорить с Государем, но царица категорически заявила, что он очень занят [453]. Со слов Елизаветы Федоровны, разговор был «решительным» и шел о Г.Е. Распутине. Великая княгиня указала, что «старец истерзал общество, скомпрометировал императорскую семью и ведет династию к гибели» [454]. Ее сообщения о мрачном, готовом к восстанию настроении в Москве и необходимости срочных перемен повлекли за собой болезненную сцену [455]. Александра Федоровна ответила, что «Распутин великий молитвенник, что все слухи о нем – сплетни, и попросила… более не касаться этого предмета» [456]. Однако, так как великая княгиня стояла на своем, императрица оборвала ее [457]. Уходя, Елизавета Федоровна якобы бросила сестре: «Вспомни судьбу Людовика XVI и Марии-Антуанетт» [458]. Встреча осталась безрезультатной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: