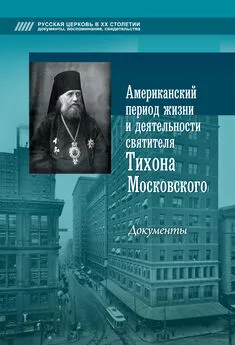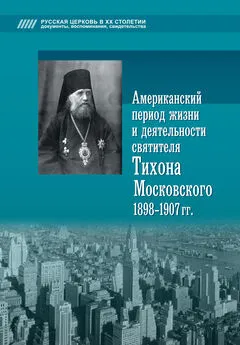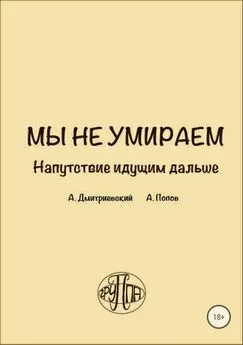Алексей Дмитриевский - Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)
- Название:Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Индрик
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-097-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Дмитриевский - Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина) краткое содержание
У каждого большого дела есть свои основатели, люди, которые кладут в фундамент первый камень. Вряд ли в православном мире есть человек, который не слышал бы о Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Отца Макария привел в него Божий Промысел. Во время тяжелой болезни, он был пострижен в схиму, но выздоровел и навсегда остался на Святой Горе. Духовник монастыря о. Иероним прозрел в нем будущего игумена русского монастыря после его восстановления. Так и произошло. Свое современное значение и устройство монастырь приобрел именно под управлением о. Макария. Это позволило ему на долгие годы избавиться от обычных афонских распрей: от борьбы партий, от национальной вражды. И Пантелеимонов монастырь стал одним из главных русских монастырей: выдающаяся издательская деятельность, многочисленная братия, прекрасные храмы – с одной стороны; непрекращающаяся молитва, известная всему миру благолепная служба – с другой. И, наконец, главный плод монашеской жизни – святые подвижники и угодники Божии, скончавшие свои дни и нашедшие последнее упокоение в костнице родной им по духу русской обители.
Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Из храма в келию умирающий игумен был перенесен на ковре. Тотчас явился монастырский фельдшер и стали пробовать все меры, чтобы воротить умирающему сознание. Обратились к кровопускан и ю, но и эт о с редство не улу чш и ло положен и я о. Макария. Умирающий лежал без сознания и без движения, тяжко лишь дыша. Когда прибыли врачи-специалисты [314], за которыми послан был нарочитый гонец сейчас же после удара, то попытались воротить к жизни умирающего электричеством, но и эта попытка оказалась неудачною, как и прежние. Тогда, испробовав, таким образом, все человеческие средства, старцы обители, окружающие постель дорогого больного, решились обратиться за помощию к Единому Врачу душ и телес наших и приступили к совершению таинства елеосвящения. Остальная же братия, лишь только разнеслась по монастырю печальная весть о тяжкой болезни «любимого батюшки», по собственному почину, ударив в колокол, стала служить, как в нижнем Пантелеимоновском, так и в верхнем Покровском соборах молебен о здравии болящего. Все молились горячо и со слезами. Молитв своих о болящем не прекращала братия, и по возвращении из храма, став на добровольный канон и взывая ко Господу Иисусу: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй раба твоего». Но ни в искусстве опытных врачей, ни в молитвах о здравии о. Макарий более не нуждался. Он ждал и просил у своих оставленных им духовных чад молитв об упокоении и переселении его из этой юдоли скорбей и невзгод в недра Авраама, Исаака и Иакова, идеже несть болезнь, печаль и воздыхание, но жизнь бесконечная. В 3 часа пополудни, 19 числа июня, не стало более в живых великого старца русского Пантелеимоновского монастыря, о чем оповестил братию его печальный звон мощного монастырского колокола. Дрогнули сердца русских иноков этой обители, думавших всю свою труженическую жизнь провести под властною охраняющею рукою своего «батюшки». Слезы невольно катились по их суровым изможденным лицам… Звон колокола снова призывал братию на молитву, но уже не о живом, а об умершем. Каждый, осенив себя крестом с словами: «Царствие небесное нашему батюшке-труженику» и оставив свое послушание, спешил ко гробу дорогого усопшего, чтобы вознести свои молитвы о почившем, поклониться его праху и облобызать его похолодевшую десницу.
Покойника одели в монашеские одежды и зашили в мантию, но лицо его, спокойное и даже улыбающееся неземною улыбкою, было оставлено открытым. Как исключение [315], на шею его надета была епитрахиль, а на персях возлежало Святое Евангелие. Таким образом, каждый имел теперь возможность взглянуть на доброе лицо покойника. От гроба покойника вся братия пошла в храмы на слушание панихиды «о новопреставльшемся приснопамятном рабе Божием игумене священно-архимандрите Макарие». Незадолго до вечерни тело покойника, положенное в гроб [316], было перенесено из келлии в Покровский соборный храм, и там началось чтение евангелия, беспрерывно продолжавшееся до самого выноса к погребению. После вечерни в тот же день у гроба покойника была совершена архиерейская панихида епископом Агафангелом, пребывающим на Святой Горе на покое, с многочисленным собором иеромонахов обители. Печальная весть о блаженной кончине руссиковского старца о. Макария быстро разнеслась по всему Афону и проникла даже до подземельев Карулья [317] . Это известие подняло на ноги, можно сказать, всю Святую Гору. Лавра св. Афанасия афонского и монастыри Святой Горы выслали своих представителей в Пантелеимоновский монастырь, чтобы отдать дань должного почтения и уважения к личности усопшего, которого чтил и уважал весь Афон за высокие его качества души и сердца и за его святую подвижническую жизнь, и выразить свое соболезнование братии монастыря, понесшей столь дорогую и чувствительную для нее утрату. Скиты афонские последовали примеру своих монастырей. Настоятели многочисленных келлий, разбросанных по всему Афону, облагодетельствованные покойным о. игуменом или вышедшие из Руссика и считавшиеся его духовными детьми, сочли для себя священным долгом явиться лично в монастырь и поклониться праху дорогого почившего. Кавьеты-ксиромахи и карульские анахореты целыми толпами направились поклониться праху усопшего и помолиться за своего благодетеля, который никогда ни в чем не отказывал этим беднякам при своей жизни и не забыл о них даже и после смерти [318] . Одним словом, в эти дни имя о. Макария было у всех обитателей Святой Горы на устах, и Руссик стал центром, к которому отшельники святогорцы, стар и млад, ехали, шли пешком и даже ползли… Стечение богомольцев было настолько велико, что их не вмещали даже и многочисленные архондарики монастыря. Храмы с утра до глубокой ночи бывали в эти дни переполнены молящимися, а в день самых похорон многим из богомольцев пришлось стоять вне храма, чтобы хотя издали видеть печальную церемонию проводов на вечный покой скончавшегося приснопамятного игумена о. Макария.
Накануне похорон, в 6¾ ч. пополудни, монастырский колокол собрал братию и пришедших на поклонение гостей в храмы к заупокойному всенощному бдению, которое длилось почти семь часов. По шестой песни канона, непосредственно после пения кондака «Со святыми упокой», о. Андрей, преемник о. Макария по игуменству, вместо обычного уставного чтения произнес в похвалу почившего слово, которое произвело на присутствующих глубокое впечатление. В 4¼ ч. утра, 21 июня, началась в обоих соборных храмах заупокойная литургия, причем в Пантелеимоновском соборе литургию совершал епископ Агафангел. Окончивши литургию в верхнем Покровском соборе, священнослужители, по афонскому обычаю, разоблачились и вышли ко гробу в одних епитрахилях. После краткой заупокойной литии, поднявши носилки с гробом на плечи, стали опускаться вниз, чтобы чин погребения совершить в нижнем Пантелеимоновском соборе. Впереди процессии монахи несли фонарь и два запрестольных креста. Процессия двигалась по кривым и узким лестницам многоэтажного корпуса медленно, останавливаясь постоянно перед многочисленными параклисами для совершения литий. Когда, наконец, процессия выступила на монастырский двор, то навстречу ей с хоругвями и крестами вышел из Пантелеимоновского собора преосвященный Агафангел. По совершении краткой литии гроб был внесен в собор и поставлен в приготовленном месте. Владыка вступил на игуменский трон, а все иеромонахи заняли стасидии, по правую и левую сторону его. Количество священнослужителей, пожелавших участвовать в совершении чина погребения, выразилось в таких цифрах: 10 игуменов, 114 иеромонахов и 35 иеродиаконов.
Отпевание, которое о. Андрей предварил кратким словом [319] , продолжалось около четырех часов. Пение непорочных, канона и других песнопений было умилительное и неспешное. На прощание с почившим и последнее целование потребовалось около двух часов времени, так как не только братия и прибывшие из других монастырей, но даже все монастырские рабочие без исключения желали проститься с покойником и шли дать ему «последнее целование». Во время этого прощания участвовавшие в погребении иеромонахи произносили возглас: «Яко ты еси воскресение и живот», предваряемый восклицаниями иеродиаконов «Господу помолимся». После отпевания гроб с крестный ходом был вынесен из храма при печальном перезвоне колоколов, обнесен кругом его и поставлен у могилы, место для которой было указано самим покойником. По совершении краткой литии и по прочтении разрешительных молитв гроб опустили в могилу. Все присутствующие на погребении бросили на крышку гроба земли, которая, в буквальном смысле этого слова, скрыла дорогой прах от их взоров. Вот эта-то, горстями насыпанная, земля может быть поистине названа – terra levis, которую немногим счастливцам приходится получать за свой короткий жизненный путь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: