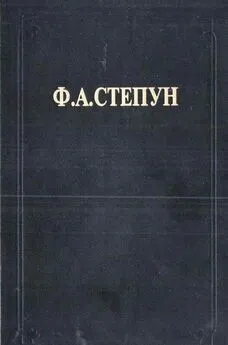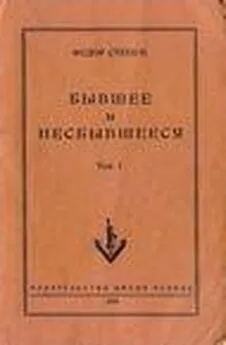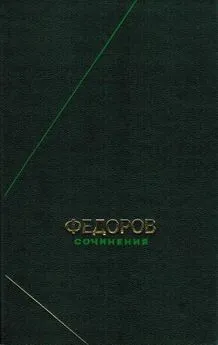Федор Степун - Сочинения
- Название:Сочинения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Степун - Сочинения краткое содержание
Степун Ф.А. Сочинения. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. - 1000 с.
Сборник содержит философские, культурно-исторические и публицистические работы выдающегося русского философа, творившего (говоря его же словами) в эпоху «безумия разума», - Федора Августовича Степуна (1884-1965). Ф.А. Степун - один из основателей знаменитого журнала «Логос», вторую половину жизни проведший в эмиграции. Философ-неокантианец волею истории оказался в центре философских и политических катаклизмов. Понимая российскую катастрофу как часть общеевропейской, он пытался понять пути выхода из этого глобального кризиса. Большевизм и фашизм он трактовал как победу иррационализма. Основная его проблема в 20-30-е годы это поиск метафизических оснований демократии. Эти основания он увидел в Божественном утверждении свободного человека как религиозного смысла истории, в христианстве, понятом им в духе рационализма. Современники ставили его в ряд с такими западными философами как Пауль Тиллих, Мартин Бубер, Романо Гвардини и др. Книга избранных философско-публицистических сочинений мыслителя на его родине в таком объеме издается впервые.
В тексте пропущены страницы 494 и 495 оригинального издания.
Сочинения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но об этих врагах необходима особая и подробная речь.
Очерк V
В 1905 или 1906 году, точно сейчас не помню, я, будучи еще студентом, читал в Гейдельберге в пользу революционных партий (доход они между собою как-то делили) реферат на тему: «О духовной немощи русской революции».
Основное содержание этого по многим причинам памятного мне доклада сводилось к проведению параллели между Великой французской и только что прокатившей свои первые громы русской революцией. Я доказывал, что великой, в том смысле, в котором это слово приложимо к французской, русской революции никогда не быть потому, что в её основе хотя и лежит великая, горькая нужда русского народа, но не лежит никакой идеи.
Какими бы экономическими и политическими причинами ни определялась французская революция, она, с точки зрения историко-философского подхода к ней, представляет собою исключительно величественное зрелище планирования (этого авиационного термина я в 1906 году, конечно, еще не употреблял) целой плеяды новейших и величайших идей восемнадцатого века — религиозных, научных, социальных и педагогических.
Совсем иное дело — русская революция. Историку идей, историку философии с её идеологическими предпосылками делать почти нечего. Всё главное он легко изложит в главах о революционных принципах восемнадцатого века и о Карле Марксе. Заметка об идеях русского марксизма выйдет у него очень коротка — какие же в русском марксизме были свои идеи. Несколько подробнее придется ему, конечно, остановиться на философии русского народничества, но и тут он будет прав, если отметить философскую безразмерность идеологов этого наиболее оригинального течения русской общественно-революционной мысли. Говоря откровенно, утверждал я в своем докладе, всю философию русской революции можно без труда изложить в подстрочных примечаниях к истории западной философии конца восемнадцатого и середины девятнадцатого века.
Но важнее этого обстоятельства казалось мне другое. Важнее малой оригинальности русских революционных идей их глубокая надорванность, расшатанность и скомпрометированность. Когда революционные принципы восемнадцатого века в первые дни Великой французской революции взваливали себе на плечи жизнь, они были сильными, вдохновенными и гордыми юношами. Когда же им и их прямым потомкам, материалистическим и социалистическим учениям девятнадцатого века, пришлось подставлять свои плечи под гораздо большую тяжесть русской жизни и нужды, первые были совсем хилыми, заштатными старичками, а вторые хотя и самодовольными, но во многом уже отсталыми от своей эпохи учителями жизни.
Конечно же, не Руссо и Монтескье, не Сен-Симон и Прудон, не Бакунин, Маркс, Лассаль и Фейербах были в эпоху, когда слагалась и разражалась русская революция, властителями душ и чувств европейского человечества, а Шопенгауэр, Вагнер, Ницше, Достоевский, Толстой и Ибсен.
Но если так обстояло дело в европейском масштабе, то в национально-русском оно обстояло еще сложнее и заостреннее. В России революционная идеология была не только отсталою, но тою духовно-революционною силою, которая десятилетиями расстреливала из приземистых крепостей толстых журналов и газетных траншей все самые талантливые явления русской духовной жизни: русскую религиозную философию, русский символизм, все передовое антипередвижническое искусство, Розанова и даже... Достоевского.
Объяснение этого трагического обстоятельства, этой духовной реакционности русской революционной идеологии я искал в двойном отношении России к Европе. Социально, политически и экономически бесконечно отсталая, Россия в сфере своего религиозно-эстетического сознания шла в лице Достоевского, Толстого, Соловьёва и их последователей почти впереди Европы. Не успев ещё практически разрешить ни одной насущной проблемы французской революции, она на революционном опыте Европы гениально, но в отношении своих собственных исторических задач как бы преждевременно, учла все возможности прискорбных последствий революционирования мысли широких народных масс. Начиная от летучей фразы Герцена о «коронованных мещанах» [159] фразы Герцена о «коронованных мещанах» — в трактате «Концы и начала».
и не кончая «Бесами», русская мысль никогда не переставала восставать против безбожной цивилизации Европы и её идолопоклонничества перед прогрессом.
В этом расслоении России на политически очень отсталую и на духовно пророчески-передовую виделась мне главная причина того положения вещей, юмористическая формула которого дана Соловьёвым, утверждавшим, как известно, что в России люди, верующие в Бога, все — чуть ли не за порку крестьян, а верующие в обезьяну как в прародительницу рода человеческого — за положение души своей за други своя [160] Возможно, речь идет о следующих весьма популярных в начале века иронических словах В.С.Соловьева (1853—1900), не раз всплывавших в текстах неорелигиозных мыслктелей: «Люди, требовавшие нравственного перерождения и самоотверженных подвигов на благо народное, связьшали эти требования с такими учениями, которыми упраздняется самое понятие о нравственности: "ничего не существует, кроме вещества и силы, человек есть только разновидность обезьяны, а потому мы должны думать о благе народа и полагать душу свою за меньших братьев"» (Соловьев В.С. Византинизм и Россия. Часть VIII // Соловьев В.С. Собр. соч.: В 10-ти т. СПб., б.г. Т. 7. С. 302.
.
Прения после моей «Идейной немощи» (помню, что на одном из заседаний меня против жестоких нападок социалистов авторитетно защищал тогда совсем еще молодой, но уже «солидный» ученый, покойный Богдан Александрович Кистяковский) бывали крайне оживлённы. В общем, все оппоненты меня, конечно, беспощадно «разделывали»; благодарил же каждый раз только председатель, но не за содержание, а за «сбор».
Оппоненты мои распадались на два лагеря: на «всех» и на «одного». «Все» были, как тогда полагалось в русских университетских колониях, социалистами и революционерами — с.р., с.д., бундовцы; «один» был невероятным и непонятным явлением, возбуждавшим острую ненависть и презрение «всех». Монархист и юдофоб, он белою вороною ходил по улицам Гейдельберга в распахнутой николаевской шинели, с Георгиевским крестом (он добровольцем участвовал в японской войне) на тугой, подложенной груди. «Все» упорно доказывали мне, что раз я хочу революцию,-то не смею и не могу глубоко реакционные явления Достоевского и Соловьёва ставить выше идеологии революционного социализма. Как я ни варьировал свою мысль, что я совсем не хочу революции, потому что она как таковая вообще не может быть предметом чьего бы то ни было разумного желания, а только жду и хочу её приближения (как врач ждет и хочет приближения кризиса) ради духовного выздоровления России, она моими оппонентами не воспринималась. Я оставался у них на подозрении, причем наиболее ортодоксально верующие в «праматерь-обезьяну: высказывали даже впоследствии всяческие темные соображения о моей близости с георгиевской шинелью, которая, правда, неоднократно приходила ко мне увещевать не возиться с «жидами и социалистами» и с которой я из духа протеста против революционного доктринёрства не раз появлялся в штаб-революционном гейдельбергском кафе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: