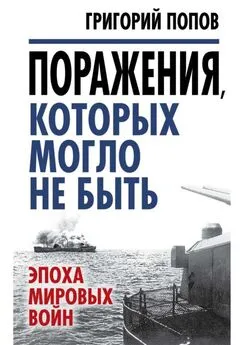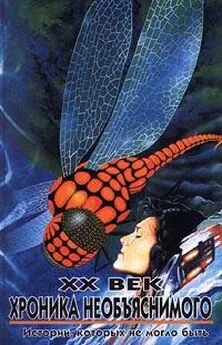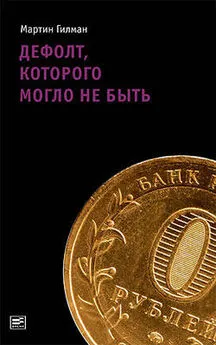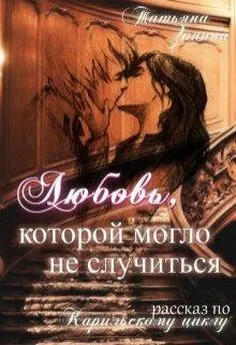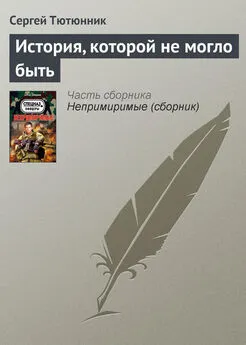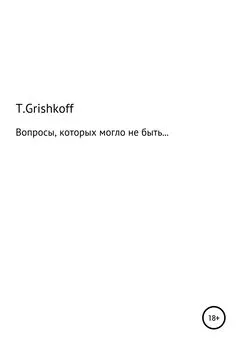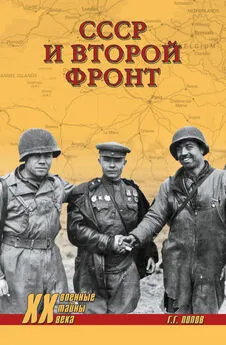Григорий Попов - Поражения, которых могло не быть
- Название:Поражения, которых могло не быть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ТД Алгоритм
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906861-39-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Попов - Поражения, которых могло не быть краткое содержание
В книге под необычным для традиционной историографии углом зрения освещаются, казалось бы, хорошо изученные этапы и события мировых войн XX века, а также малоизвестные операции.
Действительно ли мировой характер войны, начавшейся в 1914 году, был предрешен? Чем на самом деле объясняется провал войск вермахта под Москвой? Почему присоединение к Советскому Союзу Выборга в результате «зимней войны» не только не привело к усилению стратегических позиций СССР в Карелии, но и стало одной из весомых причин установления блокады Ленинграда? Чем обернулись ошибочные стратегические решения Рузвельта в войне на Тихом океане и что в итоге спасло Антигитлеровскую коалицию от катастрофы?
Предметом исследования Г.Г. Попова становятся не столько сами боевые действия, сколько связь между политикой, дипломатией, идеологией, экономикой и военной стратегией. Автор уверен, что исход крупных военных операций чаще всего был уже предрешен в тени кабинетов, где принимались верные либо роковые решения.
Поражения, которых могло не быть - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Концепция развития современных по тем временам вооружений в конце 1920 — начале 1930-х г. базировалась на идее замены пехотных и кавалерийских частей танковыми частями. И.В. Сталин рассматривал это как наиболее экономичный способ развития сухопутных сил [641] Кен О.Н. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920-х — середина 1930-х гг.). М.: ОГИ, 2008. С. 89.
, поскольку многочисленную армию СССР просто не мог содержать ни тогда, ни даже в канун Второй мировой войны. Как мы покажем ниже, производство новых вооружений в первой половине XX в. занимало в военном бюджете государства не столь значительный процент, большая же часть шла на выпуск боеприпасов, ГСМ, выплаты зарплат, строительство и т. д., то есть снабжение.
СССР, оказавшись после гражданской войны в глубочайшем экономическом кризисе, на восстановление после которого ушли почти 5 лет, имел существенные ограничения по военному бюджету. Это вызывало постоянное недовольство Наркомата обороны. Однажды, в канун первой пятилетки, Ворошилов заявил, что не сможет далее руководить Вооруженными силами при таких малых ассигнованиях.
Сталину была нужна дешевая армия, чтобы решить вопросы модернизации и расширения тяжелой промышленности, которые, как он думал, можно было осуществлять только за счет перераспределения средств из других сегментов экономики. Интенсивные методики роста индустриализации страны стали широко применяться лишь после Второй мировой войны, до этого советская экономическая мысль практически имела очень смутные представления об этом.
Итак, согласно сталинской концепции войны, которая выросла из длительных обсуждений развития вооруженных сил страны конца 1920-х гг., изначально маленькая, всего 650–700 тыс. человек, но хорошо вооруженная армия должна была отразить нападение врага и перейти в контрнаступление. При этом и достижение такой численности армии мирного времени, которая была лишь на 40–50 % больше, чем у Франции, достигалось за счет снижения индекса развертывания и, соответственно, вспомогательных тыловых частей. Это в немалой степени расходилось с концепцией развития армии, предложенной после Гражданской войны Фрунзе, согласно которой ставка делалась именно на развертывание резервных дивизий в случае начала войны.
Однако сталинская концепция развития армии конца 1920— начала 1930-х гг. опиралась на гипотезу Тухачевского, что СССР будет воевать с Польшей и другими лимитрофами. Основным вероятным противником, конечно, на суше считалась Польша. Вероятность масштабного вооруженного конфликта с Японией была еще достаточно смутной в представлениях советского руководства.
Но вернемся к проблеме производства. Итак, предполагалось заменить танками живую силу, чтобы решить две задачи — снизить коэффициент развертывания и численность армии мирного времени. Однако вопрос, сколько надо РККА танков и сможет ли народное хозяйство освоить их массовый выпуск, оставался нерешенным в конце 1920-х гг. Согласно мнению начальника ГВПУ ВСНХ Толоконцева, советская промышленность могла в конце 1920-х гг. освоить выпуск 10 тыс. танков. Однако К. Ворошилов счел это преувеличением, снизив выпуск танков до 3500 единиц в течение нескольких лет [642] Кен О.Н. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920-х — середина 1930-х гг.). М.: ОГИ, 2008. С. 89.
.
В историографию перестроечной поры маршал К.Е. Ворошилов вошел как «танкоборец», да и ретроград в целом. Однако это не соответствовало действительности. Ворошилов выступил на июльских дебатах в Политбюро по вопросу довооружения и переформирования сухопутных сил против раздувания парка тяжелой бронетехники только из чисто рациональных соображений. Во-первых, как было сказано, нарком обороны не верил, что промышленность была в состоянии к концу первой пятилетки освоить выпуск 10 тыс. танков. Во-вторых, что еще важнее, Ворошилов вполне верно полагал, что танки конструкций 1920-х гг., то есть фактически образцы Первой мировой войны, вскоре устареют настолько, что их просто будет невозможно применять в условиях надвигавшейся войны [643] Кен О.Н. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920-х — середина 1930-х гг.). М.: ОГИ, 2008. С. 89.
. Именно из-за вопроса своевременности освоения массового выпуска танков столкнулись интересы Ворошилова и Тухачевского, последний в начале 1930-х гг. упорно настаивал на производстве даже не 10 тыс., а более 40 тыс. танков.
В конце 1920— начале 1930-х гг. в научно-технической мысли мира наметился прорыв, который навсегда изменит технический характер вооружений. Очевидно, это стало ощущаться еще в середине 1920-х гг. Но советская промышленность отставала, поэтому Запад всегда шел на шаг впереди СССР по многим видам вооружений.
Если оценка потенциального выпуска танков в конце 1920-х гг., то есть в самом начале первой пятилетки, имела диапазон от скептического прогноза Ворошилова в 3500 единиц до оптимистического — в 10 000 штук, значит, потенциал промышленного производства к концу эпохи НЭПа был все-таки уже достаточный, чтобы говорить о возможности производить массово современную по тем временам военную технику. Правда, учитывались еще перспективы строительства в первую пятилетку новых заводов. Однако уже в марте 1928 г. на основе планов, создававшихся в 1927 г., РВС СССР запланировал увеличение танкового парка РККА до 2510 машин, а самолетного парка — до 4522 единиц [644] Кен О.Н. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920-х — середина 1930-х гг.). М.: ОГИ, 2008. С. 55.
. Тем не менее рост новых вооружений должен был происходить в том числе за счет сокращения численности стрелковых частей, на 17 тыс. человек, а также уменьшения количества запасных частей, что свело численность состава армии военного времени до 2,8 млн человек вместо 3,4 млн, по старым планам мобилизационного развертывания [645] Кен О.Н. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920-х— середина 1930-х гг.). М.: ОГИ, 2008. С. 55–56.
.
Планы РВС начала 1928 г. во многом строились на оценке возможностей уже существовавшей промышленности. По мнению начальника Мобилизационно-планового управления ВСНХ Постникова, план РВС мог быть выполнен, кроме авиации [646] Кен О.Н. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920-х— середина 1930-х гг.). М.: ОГИ, 2008. С. 56.
. После бурных дебатов первой половины 1928 г. специальная комиссия во главе с Ворошиловым пришла к заключению, что народное хозяйство СССР было в состоянии на основе уже имевшихся средств поддержать существование армии военного времени численностью в 3 млн 266 тыс. человек [647] Кен О.Н. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920-х— середина 1930-х гг.). М.: ОГИ, 2008. С. 62.
.
Интервал:
Закладка: