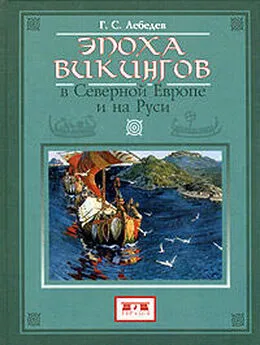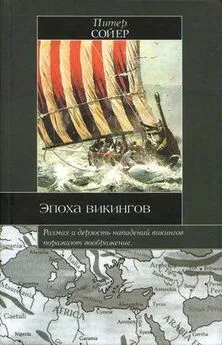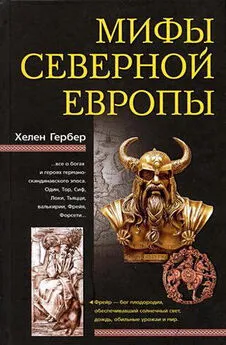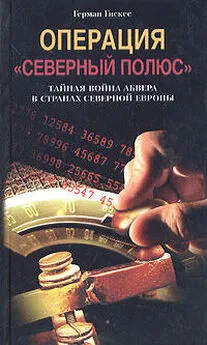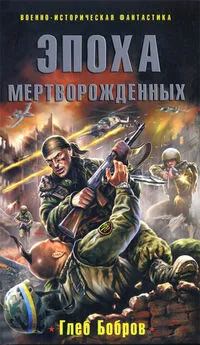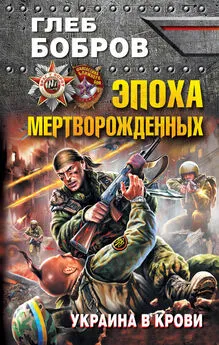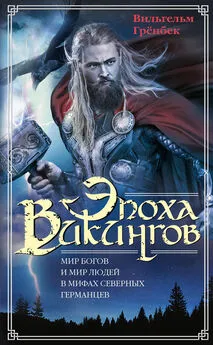Глеб Лебедев - Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси
- Название:Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2005
- Город:Санкт-Петебург
- ISBN:5-8071-0179-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Глеб Лебедев - Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси краткое содержание
Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Основанные на показаниях древнерусской летописи, прежде всего «Повести временных лет» (и самостоятельных новгородских летописей), эти положения усилиями петербургских академиков, компетентных историков (и при этом не только немцев по происхождению — как цитированные авторы, а также Г.-Ф. Миллер и А. Л. Шлецер, внесшие собственный вклад в разработку «норманской ороблемы») получили в XVIII-XIX вв. серьезное подкрепление данными письменных источников средневековой Европы, Скандинавии, соотнесены со свидетельствами арабских и византийских авторов. «Норманизм» или «норманская теория происхождения Древнерусского государства» стали основою первого обобщения древней русской истории, публиковавшейся с 1816 по 1829 г. «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, выступающего в этом случае и как основоположник в целом, отечественной исторической науки, и, в частности, как определяющая фигура «петербургской научной школы» (Карамзин 2002: 24-26).
Антинорманизм как научное течение зародился также в русле «петербургской школы исторической науки» в пору ее генезиса, через десять лет после смерти Г.-З. Байера (1694-1738), без достаточных оснований оцененного как «основоположник норманизма». В 1749 г. на обсуждение Академии была представлена программа написания русской истории, предложенная ректором академического университета, академиком Г.-Ф. Миллером. Именно против его положений, а также и личного участия в проекте создания обобщающего сочинения по русской истории, выступил М. В. Ломоносов, поддержанный академиками С. П. Крашенинниковым, Н. И. Поповым, В. К. Тредиаковским, И.-Э. Фишером, Ф.-Г. Штрубедепирмонтом и др. (Ломоносов 1952:120-121). При этом полемика, по оценке современного историографа, строилась как заведомо предвзятая и направленная прежде всего лично против Миллера, чья «позиция была более объективна, и во всяком случае, более научна, чем построения Ломоносова» (Хлевов 1997а: 8).
Дискуссия заняла 29 заседаний Исторического собрания Академии. Ломоносов, объявляя славянами роксолан (сарматов), готов (германцев), пруссов (балтов), легко и логично доказывал на этом основании изначальное «славянство» варягов, а следовательно, и варяжских князей. В дальнейшем «антинорманистские» положения пополнил, и откорректировал В. Н. Татищев, дополнивший материалы Г.-З. Байера данными «Иоакимовой летописи» (возможно, утраченного в дальнейшем источника, основанного на текстах XI в.).
В. Н. Татищев, участник Полтавской баталии Петра со шведами, не признавал летописных варягов скандинавами, при весьма почтительном отношении к труду Г.-З. Байера (Татищев 1962:464). Правда, и к славянам он, в отличие от Ломоносова, относить их не стал, но объявил финнами, полагая, что Рюрик с братьями пришли из Финляндии «от королей и князей финляндских» (Татищев 1962:291). На исходе XVIII столетия, однако, основываясь на тех же источниках, получила поддержку не только «финская» (татищевско-болтинская) версия «антинорманизма» (Болтин 1793: 163), но и построенная на той же Иоакимовской летописи, и при этом вполне «скандинавская», атрибуция варягов в богатом яркими, хотя при этом и фантастичными положениями (вроде основания Москвы — Олегом в 880 г.) «Зерцале российских государей» Т. С. Мальгина (1794).
В ходе этих дискуссий, далеких от строгого и объективного исторического исследования, к началу XIX столетия определились научные основания и построенные на качественной «критике источников» положения «классического норманизма» в труде A. Л. Шлецера «Нестор». Сжато эти положения сводились к формуле: «скандинавы или норманны в пространном смысле основали русскую державу» (Шлецер 1809: 325).
По существу, на шлецеровских выводах, критическом анализе источников и оценке их данных основывался Н. М. Карамзин, который, по современной оценке, «впервые конституировал норманский теоретический тезис в обобщающем курсе русской истории, введя положение о норманстве призванных князей в число аксиом прошлого. Его труд стал связующим звеном между становящимся норманизмом XVIII века и устоявшимся норманизмом XIX столетия» (Хлевов 1997а: 18).
Именно этот «устоявшийся норманизм» в середине XIX столетия, после дискуссии Н. И. Костомарова и М. П. Погодина в «Пассаже» Санкт-Петербурга 19 марта 1860 г. (Клейн 1999: 91-101), стал «видовой» особенностью «петербургской научной школы». Во второй половине XIX столетия «антинорманизм» в тех или иных разновидностях развивают, по преимуществу, московские ученые, Ф. Л. Морошкин, М. Т. Каченовский, Н. А. Полевой, Д. И. Иловайский (правда, замечательный дилетантизмом своих построений труд директора художественного музея Императорского Эрмитажа и дирекции Императорских театров С. А. Гедеонова «Варяги и Русь» был издан в Петербурге в 1876 г.). Впрочем, наиболее значительные историки «московской школы», С. М. Соловьев в своей «Истории России с древнейших времен» (Соловьев 1959) и В. О. Ключевский в «Курсе лекций по русской истории» (Ключевский 1987), занимали позиции, которые сторонники «антинорманизма» не могли оценивать иначе, как «норманизм». При этом ни одной столь же целостной панорамы отечественной истории, как у названных авторов, с «антинорманистских» позиций создано не было.
Как и в XVIII, так и в XIX и XX вв. антинорманизм (как, впрочем, и крайние, «экстремистские» версии норманизма, распространенные, главным образом, в зарубежной — шведской, немецкой, английской — научной, научно-популярной и публицистической литературе) основывался на вненаучных, идейно-политических побуждениях. Эти побуждения, конечно, порою стимулировали вполне плодотворную разработку отдельных аспектов и тем, но были несовместимы с обобщением всего корпуса объективных научных данных, где многое противоречило принятым идеологическим установкам. Умолчание или подтасовка этих данных, подмена безусловно скандинавской этнической атрибуции «варягов» любой другой, от славянской до хазарской (!) в пушкинские времена, или — кельтской, в конце XX века, вели (и ведут) исследователей в тупик, очевидный, прежде всего, их современникам, а в неменьшей мере, и следующим поколениям историков.
Выходы из такого тупика обнаруживались, раз за разом, с расширением круга источников и углублением проблематики, возвращавшейся к эпистеме и парадигме «норманизма» со все более спокойным отношением к «остроте» проблемы, и с углублявшимся представлением о многолинейной сложности этнокультурных взаимодействий древности (как и последующих эпох, вплоть до современности). Вряд ли случайно, поколение за поколением и век за веком, платформою такого «возвращения», очагом рождения новых концепций, «ассимилировавших» норманизм (и преодолевавших антинорманизм!), становился Санкт-Петербург.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: