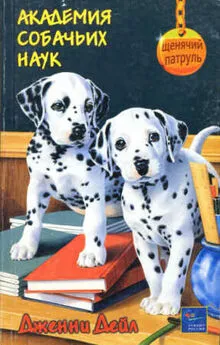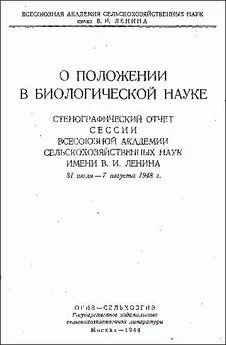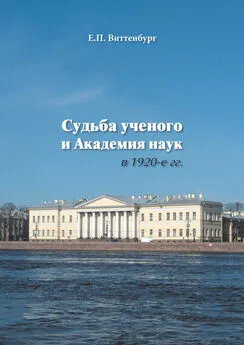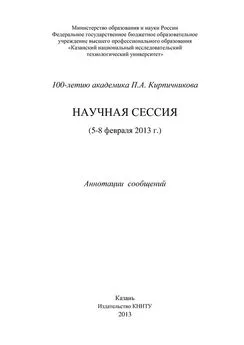АКАДЕМИЯ НАУК СССР, АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР - НАУЧНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА (28 июня — 4 июля 1950 г.)
- Название:НАУЧНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА (28 июня — 4 июля 1950 г.)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
АКАДЕМИЯ НАУК СССР, АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР - НАУЧНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА (28 июня — 4 июля 1950 г.) краткое содержание
НАУЧНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА (28 июня — 4 июля 1950 г.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Окидывая мысленным взглядом пройденный мною более чем 30-летний научный путь, я вижу много недочетов в своей работе, в большинстве случаев уже преодоленных и исправленных, а в некоторых случаях еще преодолеваемых и исправляемых. По всей вероятности, как у всякого ученого, у меня есть и такие ошибки, которых я не замечаю, и я буду благодарен тем, кто по-товарищески обратит мое внимание на них.
Несомненно было когда-то время, когда при изучении высшей нервной деятельности человека я недооценивал ее качественные особенности; не уделял достаточного внимания связям между корой и вегетативной нервной системой; недостаточно тесно связывал свою научную работу в области учения о высшей нервной деятельности с запросами клиники; недооценивал огромного значения сеченовских работ для изучения высшей нервной деятельности человека; грешил, как впрочем и очень многие другие, в своих работах излишком ссылок на зарубежных ученых. Об одном из крупных недостатков своей научной работы я уже говорил в докладе.
Три следующие вопроса привлекают к себе особое внимание в связи с выступлением академика Л. А. Орбели.
Во-первых. Л. А. Орбели вел в своем выступлении спор с каким-то фантастическим лицом относительно того, существует или не существует субъективный мир, видя при этом в отрицании субъективного мира проявление берклианства. Но уже не говоря о том, что субъективный идеализм, а следовательно, и берклианство, состоит вовсе не в отрицании субъективного мира, а, наоборот, в отрицании внешнего материального мира, в отрицании объективной реальности, не говоря об этом, суть дела заключается вовсе не в отрицании субъективного психического мира. Никто никогда не предлагал и теперь не предлагает академику Л. А. Орбели признать правильным отрицание существования субъективного мира. Речь идет не об отрицании существования внутреннего психического мира, который Л. А. Орбели называет субъективным, а о том, что этот мир, отражая объективную реальность и постоянно получая свое объективное внешнее выражение, является н е только субъективным, но в то же время и объективным, представляет собой единство субъективного и о б ъ е к т и в н о г о.
Считая внутренние переживания и в особенности ощущения только субъективными, академик Орбели идет к субъективному идеализму, а его ученик проф. Гершуни, разрывая объективные нервные процессы и «субъективные ощущения», пытается под идеалистическую концепцию подвести экспериментальную базу.
Во-вторых. Большой интерес представляет полемика, возникшая между академиком Орбели и проф. Гращенковым, относительно непосредственных впечатлений от окружающего мира и словесных обозначений, т. е., другими словами, вопрос коснулся теории символов или иероглифов. Надо признаться, что, кроме путаницы, полемика эта ни к чему не привела. У нас, к сожалению, нет сейчас времени в этом детально разбираться, но позвольте высказать лишь одно соображение.
Как известно, в свое время В. И. Ленин убедительно разъяснил ошибки Плеханова, который, некритически следуя за Гельмгольцем, видел в ощущениях «не копии действительных вещей и процессов природы», как это понимает диалектический материализм, а рассматривал ощущения как условные знаки, символы, иероглифы внешних явлений, ошибочность чего и была показана Лениным.
Необходимо четко дифференцировать от этой «теории символов» установки И. М. Сеченова и И. П. Павлова. Сеченов пользуется термином «символы», но не по отношению к ощущениям. Этот термин он применяет совсем в ином смысле, чем Гельмгольц. Сеченов различает непосредственные «впечатления от предметов и явлений внешнего мира» («Элементы мысли», изд. АН СССР, 1943, стр. 163) и словесные символы или словесные обозначения этих впечатлений (там же, стр. 166). К символам он относит также естественную мимику и жестикуляцию, условную мимику и жестикуляцию глухонемых, речь, письмена, чертежи и всю систему математических знаков (там же, стр. 164).
Конечно, в таком понимании символов нет ничего общего с «символами-ощущениями» Гельмгольца. У Сеченова по существу идет речь о межлюдской, о социальной сигнализации, о средстве общения между людьми.
Павлов говорит о непосредственных впечатлениях от разнообразных агентов окружающего мира и о словах, произносимых, слышимых и видимых (т. е. написанных) (Полн. собр. трудов, т. 3, стр. 576); иначе говоря, Павлов различает непосредственные впечатления и словесные обозначения их. На этой основе построено его учение о первой и второй сигнальных системах головного мозга.
Я привел все эти фактические справки лишь для того, чтобы указать на необходимость чрезвычайной осторожности в обсуждении вопроса о знаках или символах и на необходимость строго различать в данном вопросе, с одной стороны, совершенно неприемлемые для нас установки Гельмгольца, а с другой стороны — установки Сеченова и Павлова. Если это не будет сделано, то неизбежно возникнет та путаница, какая имела место в той полемике, которую вы слышали между академиком Орбели и проф. Гращенковым, — та путаница, которая нашла свое отражение и в выступлениях некоторых учеников академика Орбели, например, Кольцовой.
В-третьих. Академик Орбели, как, впрочем, и многие другие выступавшие здесь, употребляет выражение: «учение Павлова о второй сигнальной системе». В ряде своих статей он трактует о проблеме второй сигнальной системы. Это нельзя признать правильным.
И. П. Павлов всегда и неизменно обсуждал вопрос о второй сигнальной системе в неразрывной связи с вопросом о первой сигнальной системе, из которой в процессе развития вторая сигнальная система возникает и от которой оторвать ее невозможно.
Все типологические и патофизиологические концепции Павлова, касающиеся этих систем, всегда исходят из их взаимодействия. Я глубоко убежден в том, что правильный путь исследования заключается в изучении истории динамических взаимоотношений этих систем. Все наши исследования уже давно идут именно этим путем. К чему приводит обратная точка зрения, показывает следующий пример: на данной сессии неоднократно предполагалось поручить изучение второй сигнальной системы Педагогической академии. Можно ли считать целесообразным, чтобы первую сигнальную систему изучала Академия медицинских наук, а вторую сигнальную систему — Академия педагогических наук? Целостный организм ребенка и взрослого человека в равной мере является предметом изучения как той, так и другой академии.
Академик Орбели в своем выступлении заявил, что докладчики, т. е. академик Быков и я, занимались изложением своих заслуг. К. М. Быков не нуждается в моей защите. Но в порядке самозащиты должен сказать, что упрек академика Орбели совершенно несправедлив. Это может подтвердить каждый, кто слышал или прочитал мой доклад. Я не говорил в нем о своих заслугах. Академик Орбели также заявил, что я будто бы приписываю себе первенство перед И. П. Павловым в вопросе о второй сигнальной системе, но и это не соответствует действительности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: