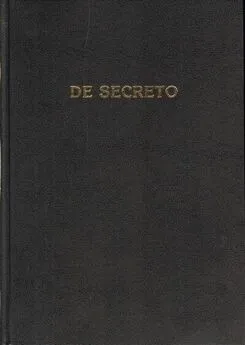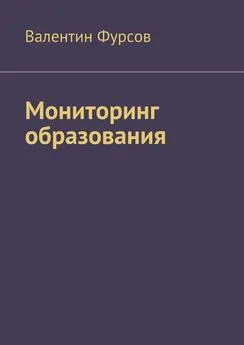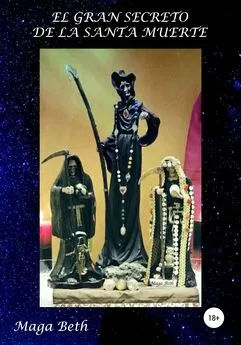А. Фурсов - De Secreto / О Секрете
- Название:De Secreto / О Секрете
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Товарищество научных изданий КМК
- Год:2016
- Город:Мрсква
- ISBN:ISBN 978-5-9907838-2-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Фурсов - De Secreto / О Секрете краткое содержание
Сборник научных трудов логически продолжает сборники «De Conspiratione/О Заговоре» (М., 2013) и «De Aenigmate/О Тайне» (М., 2015). В представленных работах исследуется ряд скрывающихся за завесой секретности событий XIX–XX вв. Речь идёт о событиях мировой борьбы за власть, информацию и ресурсы.
De Secreto / О Секрете - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, по мнению Военной коллегии Верховного суда СССР, главное место в переписке А.И. Солженицына и Н.Д. Виткевича занимала не критика И.В. Сталина как теоретика и военачальника, а критика « художественной и идейной слабости литературных произведений советских авторов».
Три источника и три совершенно разные характеристики криминальной переписки. Особенно поразительно расхождение между двумя официальными документами.
Таким образом, приходится констатировать, что и вторая версия ареста А.И. Солженицына, в основе которой якобы лежало его обвинение в антисталинской переписке, не только ничем не обоснована, но и внутренне противоречива, а поэтому тоже не выдерживает критики.
Есть во всей этой истории и другие нестыковки.
Вернёмся к постановлению об аресте. В нём говорилось: «Имеющимися в НКГБ СССР материалами установлено, что СОЛЖЕНИЦЫН создал антисоветскую молодёжную группу и в настоящее время проводит работу по сколачиванию антисоветской организации. В переписке со своими единомышленниками СОЛЖЕНИЦЫН критикует политику партии с троцкистско-бухаринских позиций, постоянно повторяет троцкистскую клевету в отношении руководителя партии тов. СТАЛИНА».
Если исходить из воспоминаний А.И. Солженицына, получается, что контрразведка сначала обратила внимание на его переписку с Н.Д. Виткевичем, а затем уже, изъяв у него «Резолюцию № 1», обнаружила, что дело не ограничивается перепиской. Между тем, из постановления об аресте явствует, что НКГБ уже к 30 января 1945 г., т. е. за полторы недели до ареста А.И. Солженицына знал, что он не только «создал антисоветскую молодёжную группу», но и «проводит работу по сколачиванию антисоветской организации». Откуда?
6 июля 1941 г. ГКО принял постановление «О мерах по усилению политического контроля почтово-телеграфной корреспонденции» и поставил задачу организовать 100 %-ный просмотр военной корреспонденции [723] Смыкалин А.С. Перлюстрация корреспонденции и почтовая военная цензура в России и СССР. СПб., 2008. С. 147.
. 13 июля Приказом НКО СССР и НКВ МФ СССР было утверждено «Положение о военной цензуре воинской почтовой корреспонденции», намечена её структура, определён круг сведений, дающих право на конфискацию корреспонденции [724] Из приказа НКО СССР и НКВМФ СССР № 00110 о введении военной цензуры воинской почтовой корреспонденции. 13 июля 1941 г. // Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов Т. 2. Кн. 1. Начало. (22.06.1941 — 31.08.1941). М., 2000. С. 308–310 (электронная версия) http://mozohin.ru/article/a-102.html
'.
Обнаружив криминальную переписку двух офицеров, сотрудник военной цензуры был обязан поставить в известность об этом своё непосредственное начальство, а оно, в свою очередь, — контрразведку. Установив в этой переписке состав преступления, контрразведка должна была поставить вопрос об аресте её авторов. А поскольку А.И. Солженицын и Н.Д. Виткевич принадлежали к среднему командному составу, для этого необходимо было получить разрешение Военного совета армии или фронта [725] Север А. «Смерть шпионам!». Военная контрразведка СМЕРШ в годы Великой Отечественной войны. М., 2009. С. 11.
. После этого дело можно было передавать соответственно в военную прокуратуру армии или фронта. Между тем, если исходить из официальной версии, получается, что оно миновало контрразведку армии, фронта, Народного комиссариата обороны СССР и оказалось в НКГБ, который и возбудил дело против А.И. Солженицына перед Военной прокуратурой СССР.
Если бы речь шла о каком-либо чрезвычайно важном деле, это можно было бы понять. Это можно было бы понять, если бы А.И. Солженицын имел генеральский чин. Между тем, он носил всего лишь капитанские погоны, да и предъявляемое ему обвинение не имело чрезвычайного характера. И уж тем более, казалось, не существовало оснований для срочного этапирования его в Москву под спецконвоем.
Есть в этом вопросе ещё одна странная деталь: дело о Н.Д. Виткевиче расследовалось фронтовой контрразведкой, затем рассматривалось фронтовым трибуналом; дело А.И. Солженицына расследовалось НКГБ и было решено Особым совещанием при НКГБ. А.И. Солженицын пишет, что в Особое совещание дело было передано только потому, что оснований для судебного приговора не было. Но почему же их оказалось достаточным для Н.Д. Виткевича и недостаточно для А.И. Солженицына? Значит, дело в чём-то другом.
Рассказывая о своём первом аресте, А.И. Солженицын пытался убедить читателей в том, каким «ленивым» был его следователь и сколько ловкости проявил он, чтобы не утянуть за собой кого-либо ещё. В этом отношении показательна история с его военным дневником, в который, если верить ему он на протяжении нескольких лет записывал всё, что слышал. «Эти дневники были — моя претензия стать писателем. Я не верил нашей удивительной памяти и все годы войны старался записывать всё, что видел (это бы ещё полбеды), и всё, что слышал от людей. Я безоглядчиво приводил там полные рассказы своих однополчан — о коллективизации, о голоде на Украине, о 37-м годе и по скрупулёзности и никогда не обжигавшись с НКВД, прозрачно обозначал, кто это мне всё рассказывал» [726] Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ // Малое собрание сочинений. Т. 5. С. 103.
.
Можно допустить (хотя и в это плохо верится), что первоначально А.И. Солженицын мог не задумываться о судьбе своих записей. Но неужели он продолжал сохранять подобную наивность и после того, как принял решение о необходимости создания антисоветской организации и стал вынашивать замыслы о привлечении в неё своих знакомых?
Как же повёл себя А.И. Солженицын на следствии, зная, какой криминал он привёз в своём чемодане?
«От самого ареста, когда дневники эти были брошены оперативниками в мой чемодан, осургучены и мне же дано везти тот чемодан в Москву — раскалённые клещи сжимали моё сердце. И вот эти рассказы, такие естественные на передовой, перед ликом смерти, теперь достигли подножия четырёхметрового кабинетного Сталина — и дышали сырою тюрьмою для чистых, мужественных, мятежных моих однополчан» [727] Там же. Т. 5. С. 103.
.
«Эти дневники больше всего и давили на меня на следствии. И чтобы только следователь не взялся попотеть над ними и не вырвал бы оттуда жилу свободного фронтового племени — я, сколько надо было, раскаивался и, сколько надо было, прозревал от своих политических заблуждений. Я изнемогал от этого хождения по лезвию — пока не увидел, что никого не ведут ко мне на очную ставку; пока не повеяло явными признаками окончания следствия; пока на четвёртом месяце все блокноты моих военных дневников не зашвырнуты были в адский зев лубянской печи, не брызнули там красной лузгой ещё одного погибшего на Руси романа и чёрными бабочками копоти не взлетели из самой верхней трубы» [728] Там же.
Интервал:
Закладка: