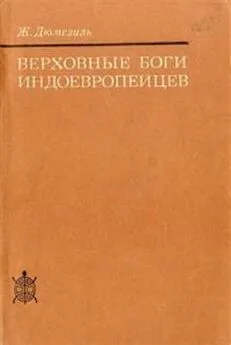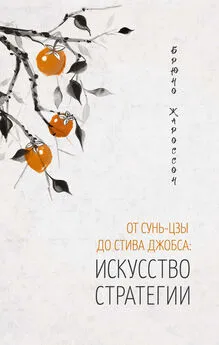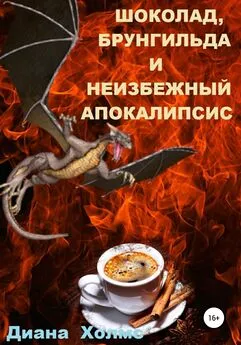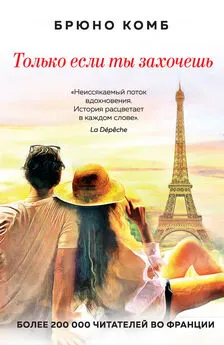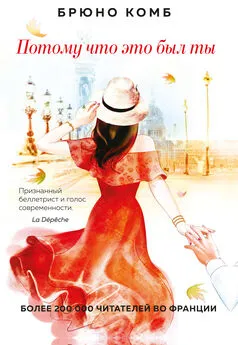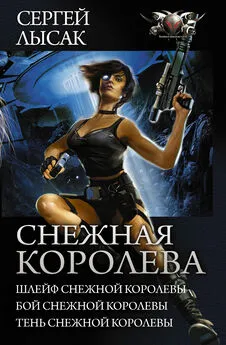Брюно Дюмезиль - Королева Брунгильда
- Название:Королева Брунгильда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЕВРАЗИЯ
- Год:2012
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-918S2-027-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Брюно Дюмезиль - Королева Брунгильда краткое содержание
Весной 581 г. на Шампанской равнине готовились к столкновению две франкских армии. Шесть лет назад случаю было угодно, чтобы престол самого могущественного из франкских королевств — Австразии — унаследовал ребенок. С тех пор магнаты дрались за пост регента. Но когда решительная битва должна была вот-вот начаться, меж рядов противников появилась женщина в доспехах. Она пришла не затем, чтобы принять участие в бою, и даже не затем, чтобы воодушевить мужчин храбро биться. Напротив, употребив всю власть, какую давало ей ношение воинского пояса, она потребовала, чтобы франки положили конец распре. Неожиданно для всех она добилась своего. Благодаря этому воинственному жесту мира варварская королева по имени Брунгильда вошла в историю. Вскоре франки признали за ней верховную власть, и почти тридцать лет она царствовала на территории от Атлантики до Баварии и от Северной Италии до берегов Эльбы, встав у руля самого могущественного королевства Средневековой Европы — Франкского государства Меровингов.
Но работа Бруно Дюмезиля — не просто яркая биография Брунгильды. Французский историк подарил читателю настоящую эпическую сагу об «эпохе Меровингов» — её главных действующих лицах, варварских королях и знати, епископах и монахах, интригах при королевском дворе и провинции, борьбе за власть и влияние. Сагу о средневековом мире, который без Брунгильды мог стать другим.
Королева Брунгильда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ведь всадник со «Слоновой кости» — победоносный монарх. У его ног варвар со всклокоченной бородой спешит в знак покорности коснуться его копья. Подняв руку, побежденный как будто просит у своего победителя милосердия — уже явно дарованного, поскольку император ему слегка улыбается. На фризе нижней пластинки другая аллегорическая Виктория возводит трофей, увешанный оружием сраженных врагов. К его подножию маленькие варвары, согнутые поражением, несут дань, состоящую из украшений, слоновьих бивней и живых животных.
На «Слоновой кости Барберини» триумф императора оттенен верностью его собственных подданных. На левой пластинке римский полководец в боевом облачении почтительно преподносит повелителю статуэтку Виктории. Этим жестом сановник демонстрирует, что успех, которого он добился, на самом деле принадлежит не ему, а вся слава естественным образом причитается императору. Правая, утраченная пластинка, должно быть, изображала другого полководца, тоже преподносящего принцепсу символ своих побед.
К сожалению, ни один элемент не позволяет указать имя этого византийского императора, благословляемого Христом и поддерживаемого щедрой Землей. Наиболее вероятной представляется идентификация с Юстинианом (527–565), но нельзя исключать Анастасия (491–518), Юстина II (565–578) или Тиберия II (578–582). Для Брунгильды и ее современников, смотревших на этот предмет, имя модели несомненно было не слишком важно. Они скорей обращали внимание на знаки политического, религиозного и экономического могущества, окружавшие всадника из слоновой кости. И королева западных варваров должна была с особой тревогой присматриваться к этим восточным варварам — побежденным, униженным и вынужденным платить дань.
Ведь, посылая «Слоновую кость Барберини» в качестве дипломатического подарка, Византийская империя в первую очередь передавала средство своей универсалистской пропаганды {37} 37 Sodini, Jean-Pierre. Images sculptées et propagande impériale du IV e au VI e siècle: recherches récentes sur les colonnes honorifiques et les reliefs politiques à Byzance // Byzance et les images: cycle de conférences organisées au Musée du Louvre, Paris, par le Service culturel du 5 au 7 décembre 1992. Sous la dir. d'André Guillou et de Jannic Durand. Paris: La Documentation française, 1994. P. 43–94.
. Это послание выражало одновременно некую патерналистскую благосклонность (император улыбается тем, кто ему покоряется) и недвусмысленную угрозу (он сокрушает и губит тех, кто восстает). Кстати, ювелир, вырезавший «Слоновую кость», был достаточно искусен и дал понять, что военные возможности императора отнюдь не иллюзорны: римские армии действительно покорили мелких восточных варваров, коль скоро из слоновьих бивней, которыми те вынуждены были выкупать свою жизнь, императорские ремесленники сделали великолепное панно с изображением этой сцены. «Слоновая кость Барберини» представляла собой одновременно утверждение и доказательство неизменного могущества империи.
Подобный предмет лучше любого текста может высветить состояние умов мужчин и женщин второй половины VI в. Все прекрасно знали, что римское могущество на Западе почти сто лет как угасло, что город Рим спит в своем саване из руин и что никто, даже сам великий Теодорих, не посмел вновь принять императорский титул. Но еще были причины, и вполне основательные, верить, что Римская империя вернется в Западную Европу. Некоторые на это надеялись и старательно добивались, другие этого страшились и пытались отвратить эту угрозу. По галльскому, италийскому и иберийскому обществу прокатывались волны надежды или страха.
Мы хорошо знаем, что римскому могуществу больше никогда не удалось прочно утвердиться в Западном Средиземноморье. Но варварские королевства этого не знали и жили в постоянной, вполне обоснованной тревоге за свое выживание в среднесрочной перспективе. Одной лишь возможности победоносного контрнаступления империи достаточно, чтобы понять, откуда взялся такой персонаж, как Брунгильда, а далее — чтобы разобраться в основных тенденциях ее политики.
НА ВОСТОКЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
Византия как продолжение империи
С 335 г. Константинополь, город, который Константин возвел на месте бывшего греческого города Византии, был объявлен столицей империи и «новым Римом». Поскольку он дал приют большей части имперской бюрократии, он сохранил свои функции в 395 г., когда восточная часть римского мира досталась сыну Феодосия I, Аркадию. Казалось, Византийская империя — не что иное, как сохранившаяся Римская империя.
Впрочем, в V в. обе части Средиземноморья оставались достаточно близки между собой, и, возможно, их история отличалась меньше, чем часто утверждают. Действительно, Восток пережил почти те же опасности, что и Запад. Династическая нестабильность там и там была сходной, порождая одни и те же разрушительные последствия. Точно так же византийским границам извне постоянно угрожали «варвары», будь то гунны во Фракии или персы в Малой Азии. Дело даже чуть не кончилось трагически в 487 г., когда остготам удалось осадить Константинополь, обязанный спасением только своим великолепным крепостным стенам. На Востоке в армии тоже было много имперских варваров, и они периодически пытались поставить государство под свой контроль. Коренные римляне некоторых из них убили, как магистра милитум гота Гайну в 400 г. {38} 38 PLRE I. P. 379–380.
или офицера гуннского происхождения Аспара в 471 г. {39} 39 PLRE II. P. 164–169.
В более неявной форме Византия пережила и усиление разбоя, наносившего вред торговле, особенно в Египте и в горах Малой Азии. Кроме того, Восточный Рим страдал от бедствий, неведомых Западной Европе. В частности, это были религиозные трения: весь IV в. не прекращались распри между язычниками и христианами, а в следующем веке им на смену пришли столкновения между разными христианскими конфессиями. Не преувеличивая влияния таких беспорядков — которые, разумеется, стараются выпятить церковные источники, — можно не без оснований сказать, что в Византии период поздней античности был нелегким.
Однако император Востока имел на руках лучшие козыри для выхода из кризиса, чем его западный собрат, особенно с точки зрения политической харизмы. Действительно, с эллинистической эпохи обитатели восточной части средиземноморского бассейна признавали у своих правителей наличие некой сакральной ауры. Римское завоевание, а потом триумф христианства ничего в этом отношении не изменили. Подданные приближались к императору как к живому образу Христа, совершая проскинезу, ритуальный земной поклон, так изумлявший западноевропейцев. К тому же император систематически присваивал себе право назначать и смещать епископов — прерогативу, от которой первым получал выгоду патриарх Константинопольский или становился ее первой жертвой, в зависимости от конкретного случая. Во времена, когда церковные структуры оказывались прочней государственных, монарху всегда было выгодно иметь возможность контролировать руководящий состав христианской церкви.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
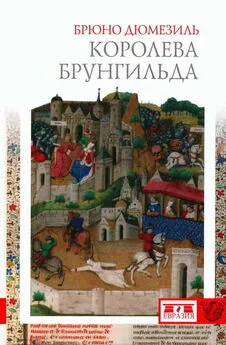

![Ольга Елисеева - Нежная королева [= Хельви — королева Монсальвата]](/books/212035/olga-eliseeva-nezhnaya-koroleva-helvi-korolev.webp)
![Лайон де Камп - Королева изгоев [= Королева оборванцев] [litres]](/books/1072881/lajon-de-kamp-koroleva-izgoev-koroleva-oborvanc.webp)