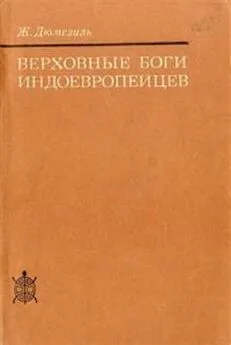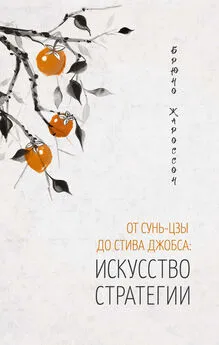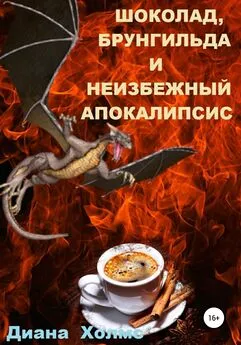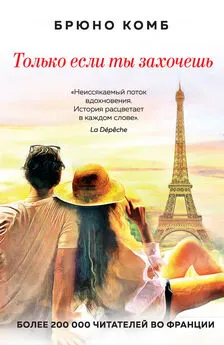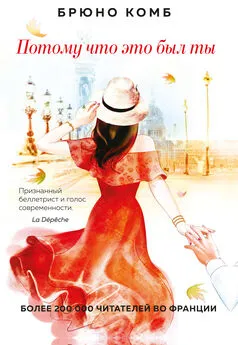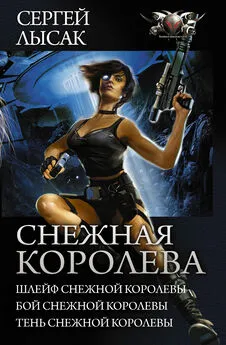Брюно Дюмезиль - Королева Брунгильда
- Название:Королева Брунгильда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЕВРАЗИЯ
- Год:2012
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-918S2-027-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Брюно Дюмезиль - Королева Брунгильда краткое содержание
Весной 581 г. на Шампанской равнине готовились к столкновению две франкских армии. Шесть лет назад случаю было угодно, чтобы престол самого могущественного из франкских королевств — Австразии — унаследовал ребенок. С тех пор магнаты дрались за пост регента. Но когда решительная битва должна была вот-вот начаться, меж рядов противников появилась женщина в доспехах. Она пришла не затем, чтобы принять участие в бою, и даже не затем, чтобы воодушевить мужчин храбро биться. Напротив, употребив всю власть, какую давало ей ношение воинского пояса, она потребовала, чтобы франки положили конец распре. Неожиданно для всех она добилась своего. Благодаря этому воинственному жесту мира варварская королева по имени Брунгильда вошла в историю. Вскоре франки признали за ней верховную власть, и почти тридцать лет она царствовала на территории от Атлантики до Баварии и от Северной Италии до берегов Эльбы, встав у руля самого могущественного королевства Средневековой Европы — Франкского государства Меровингов.
Но работа Бруно Дюмезиля — не просто яркая биография Брунгильды. Французский историк подарил читателю настоящую эпическую сагу об «эпохе Меровингов» — её главных действующих лицах, варварских королях и знати, епископах и монахах, интригах при королевском дворе и провинции, борьбе за власть и влияние. Сагу о средневековом мире, который без Брунгильды мог стать другим.
Королева Брунгильда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Спор обострился, когда на патриарший престол Константинополя в 428 г. взошел убежденный диофизит Несторий. Египетские епископы, опасаясь, что антиохийцы подорвут их влияние, обвинили его в распространении еретических тезисов. В ситуации борьбы группировок, которым император с трудом пытался навязать свой арбитраж, Несторий был осужден в Эфесе в 431 г. Третьим вселенским собором.
К вопросу вернулись несколько позже, когда константинопольский монах Евтихий стал отстаивать радикальное монофизитство вопреки авторитету нового патриарха Флавиана и при поддержке египтян и особ, близких к императору Феодосию II. В Византии политика, фракционность в церкви и регионализмы всегда образовали взрывоопасную смесь, детонатором для которой служили богословские споры. Тем не менее не следует недооценивать искренность большинства их участников. Полемика между Несторием и Евтихием поставила вопрос об идентичности Искупителя, и многие христиане действительно жаждали понять природу божества, которому они поклонялись. Но когда церковники для решения вопроса о природе Христа начали дубасить друг друга, государство забеспокоилось.
В 451 г. император Маркиан (450–457) попытался уладить конфликт, созвав в Халкидоне собор, который впоследствии признали Четвертым вселенским. Вероучение, которое там было принято — по императорскому приказу, — должно было примирить спорщиков: признавалось существование двух разных природ Христа при утверждении, что обе этих природы полностью сотрудничают друг с другом. Таким образом, Христос-человек не имел воли, отличной от воли Христа-Бога. Иисус вполне принадлежал к роду человеческому, но при этом не был затронут грехом. Попутно предали анафеме Нестория и Евтихия, предложив примириться всем их ученикам. Ради этого собор стыдливо закрыл глаза на возможную причастность всех умеренных несториан и некоторых не очень рьяных монофизитов к ереси.
Однако Халкидона было недостаточно для преодоления всех разногласий. В частности, оставалась группа непримиримых монофизитов, обвинявших Четвертый собор в том, что его решения запятнаны несторианством. Нельзя недооценивать влиятельность этого течения, особенно в Египте и Константинополе, где у него было много сторонников. Сменявшие друг друга императоры пытались разрешить кризис, предлагая новые компромиссы. Так, Зенон (474–491) обнародовал в 482 г. текст «Энотикон», побуждавший забыть Халкидонский собор, не осуждая открыто его положений. Однако это решение отверг Рим, и между Востоком и Западом возник раскол, закончившийся, лишь когда Юстин I (518–527) в 519 г. согласился вернуться на халкидонские позиции. Конечно, было трудно примирить между собой византийцев, избежав недовольства Запада, где уровень богословия был, конечно, ниже, но не настолько, чтобы там приняли что угодно.
Взойдя на императорский трон в 527 г., Юстиниан получил в наследство конфликт вековой давности, и подданные ждали от него как от наместника Бога на земле, чтобы он высказал свое мнение о природе Христа. Некоторое время Юстиниану удавалось поддерживать спокойствие, выражая собственную приверженность халкидонским позициям и позволяя жене, императрице Феодоре, открыто проявлять симпатии к монофизитам. Но поиск общего решения выглядел как никогда необходимым. А ведь Юстиниан обнаружил, что монофизиты, не слишком жалуя халкидонское вероучение, особую ненависть выражали к трем богословам V в. — Феодору Мопсуестийскому, Феодориту Кирскому и Иве Эдесскому, обвиняя их в крипто-несторианстве. Подборка текстов этих авторов, известная под названием «Три главы», ходила по рукам в заинтересованных кругах и вызывала бурные споры.
В 544 г. Юстиниан счел возможным удовлетворить монофизитскую партию, не ставя под угрозу халкидонский компромисс. Для этого он решил осудить «Три главы» по закону. Однако обвиняемые богословы не были наказаны при жизни отцами Халкидонского собора. И византийские христиане задались вопросом: допустимо ли предавать анафеме людей, умерших в мирных отношениях с церковью?
Юстиниан отмел эти сомнения и потребовал, чтобы осуждение «Трех глав» подписали все видные епископы. Среди последних был и обладатель римского престола, ставший после отвоевания византийским подданным. Но папа Вигилий (537–555) отказался одобрить текст, который ему предъявили. Чтобы вынудить его подчиниться, Юстиниан в 545 г. велел арестовать его и под сильной охраной доставить в Константинополь. В течение долгих лет, которые длилось это изгнание, папа артачился, уступал, брал свои слова обратно и в конце концов написал тексты настолько противоречивые, что в них можно было вычитать что угодно. Юстиниан счел, что этого достаточно для созыва нового собора в Константинополе в 553 г., который осудил «Три главы» и которому византийцы немедленно приписали вселенский характер.
Вигилий умер на обратном пути, и его преемником император назначил Пелагия I (556–561). Этот новый папа получил задание объяснить все дело христианам Запада и добиться, чтобы они одобрили уточненную ортодоксию. Последнее было непросто для того, кто ничего не знал об изощренных византийских дебатах. Ведь с чем для западноевропейца ассоциировался спор о «Трех главах»? Самый заметный аспект последнего состоял в том, что папа был арестован императором и под нажимом вынужден уступить в догматическом вопросе. К тому же решения Константинопольского собора 553 г., хоть и украшенного именованием Пятого вселенского, кое в чем существенно отличались от решений Четвертого собора — Халкидонского. Вот что вполне могло встревожить умы, даже если никто толком не понимал богословской проблемы, поднятой в текстах Феодора Мопсуестийского, Феодорита Кирского и Ивы Эдесского.
Поэтому Пелагию I было очень трудно добиться, чтобы его поняли. Короли и епископы меровингской Галлии сообщили Риму о своей озабоченности, христианская Африка анафемствовала покойного папу Вигилия, а католики Испании отказались признавать Пятый собор. В самой Италии некоторые епископы воспользовались случаем, чтобы отвергнуть власть Рима и создать независимую церковь, подчиненную только власти митрополита Аквилейского; этот «раскол трех глав» продлится до конца VII в.
Помимо своих доктринальных аспектов, кризис, начатый Константинопольским собором, в сжатом виде вполне наглядно иллюстрирует растущий разрыв между римским Востоком и варварским Западом. Для Византии почти не стоял вопрос, стоит ли навязывать всему миру теологический компромисс, мало кому интересный, кроме ее подданных, поскольку лозунг защиты ортодоксии позволял басилевсу бороться со всеми отклонениями, где бы они ни происходили. Но в глазах варварских государей дело о «Трех главах» очень напоминало попытку императора вмешаться в чужие дела: ведь франкские и вестготские короли хотели, чтобы к ним относились уже не как к временным управителям римских провинций, а как к властителям настоящих независимых государств. По какому праву Юстиниан сеет раздор в их королевствах своими темными догматическими вопросами? Западных епископов это дело тоже шокировало. На их взгляд, выяснять, что ортодоксально и что нет, полагалось исключительно духовенству, и вмешательство мирянина, хоть бы и императора, в догматические материи казалось им недопустимым.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
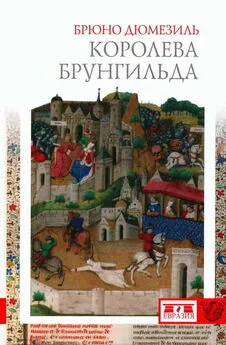

![Ольга Елисеева - Нежная королева [= Хельви — королева Монсальвата]](/books/212035/olga-eliseeva-nezhnaya-koroleva-helvi-korolev.webp)
![Лайон де Камп - Королева изгоев [= Королева оборванцев] [litres]](/books/1072881/lajon-de-kamp-koroleva-izgoev-koroleva-oborvanc.webp)