Николай Коняев - Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости
- Название:Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф; Русская тройка-СПб
- Год:2013
- Город:Москва; Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-227-04252-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Коняев - Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости краткое содержание
Автор представляет читателю полную драматизма историю крепости «Орешек» от основания ее внуком Александра Невского князем Юрием Даниловичем до наших дней. Это история крепости-твердыни, защитницы Отечества, и история страшной тюрьмы, сломавшей и уничтожившей многие жизни — от царственных узников до революционеров, история Шлиссельбургского образа Казанской иконы Божией Матери.
Автор не просто рассказывает о различных периодах и этапах жизни крепости, он фактически показывает историю России через историю Шлиссельбургской крепости, используя в своем повествовании множество документов: уникальные архивные материалы, письма и дневниковые записи…
В книге петербургского писателя дана не просто история крепости Орешек, или Шлиссельбургской крепости, в разных ипостасях: и в качестве «твердыни Московской Руси» — защитницы-цитадели от иноземных нашествий, и в качестве тюрьмы. Скорее это история страны, показанная через шлиссельбургскую летопись, для чего автор использует многочисленные документальные архивные материалы. Как сказано во вступлении, «не так уж и много найдется в России мест, подобных этому, — продуваемому студеными ладожскими ветрами островку.
У основанной внуком Александра Невского князем Юрием Даниловичем крепости Орешек героическое прошлое, и понятно, почему шведы стремились овладеть ею.
За 90 лет оккупации они перевели на свой язык название крепости — она стала Нотебургом — и укрепили цитадель, но 11 октября 1702 года русские войска «разгрызли» «шведский орех». Подробнее — в главах «Орешек становится каменным», «Шлиссельбургский проект Анны Иоанновны», «Секретный дом императора Павла», «Шлиссельбургский пожар» и др.
Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
20 августа 1907 года, накануне суда, который должен был вынести ему предопределенный смертный приговор, Владимир Осипович написал:
«Знаешь, это действительно глупо, что я все о себе. Надо бы именно о тебе писать, потому что через тебя же я буду жить дальше… Я не представляю себе тебя одну; и не представляю ни с кем из людей, которых я знаю… Собственно говоря, я представляю тебя с собою, ну, а если нет, то… И я думаю, такой же должен найтись. Он в одном будет похож на меня, в другом — нет. И ты ему будешь много рассказывать обо мне. Так что я буду жить не только в тебе, но и в нем».
При определенном желании тут можно обнаружить некоторое, пусть и сентиментальное, развитие идеи первоисточника, но философские идеи редко сохраняют чистоту, соприкасаясь с реальной жизнью.
Суд вынес смертный приговор.
«Значит, решено, — как бы даже с облегчением вздыхает Владимир Осипович в письме молодой жене. — Я исчезаю и в то же время остаюсь с тобой навсегда… но надо кончать, ибо все надо кончать «вовремя»».
Однако не исчез никуда Владимир Осипович…
Трудно сказать, что именно спасло его…
То ли сыграли роль заслуги Иосифа Моисеевича Лихтенштадта, который был знаком с генералом Михаилом Александровичем Газенкампфом, то ли — так утверждали злые языки! — Маруся Звягина сумела «повиснуть на генеральском сапоге»… Так или иначе, но при конфирмации приговора 21 августа 1907 года смертная казнь была заменена Владимиру Осиповичу бессрочной каторгой.
«Глубоко потрясло меня Ваше письмо, Мария Михайловна: сохраню его на память, — написал тогда Михаил Александрович Газенкампф Марусе Звягиной-Лихтенштадт. — Счастлив, что мог пощадить бесценную для Вас жизнь любимого человека, не отступая от долга присяги и согласно с верховным голосом совести… М. Газенкампф».
«Через несколько часов езды в душных, жарко-натопленных вагонах, мы приехали на станцию Шереметьевка, находившуюся в трех километрах от крепости. С вокзала нас сейчас же отправили в крепость. Мы шли тихо, часто спотыкаясь и увязая в снежных сугробах, неуклюжие арестантские коты падали с ног и наши цепи звенели, нарушая тишину города.
Спустились к Неве.
Напряженно всматриваемся вдаль. Но крепости не видно, она точно притаилась, спряталась от нас. Через несколько минут показалась высокая башня, как будто сторожившая подступы к крепости, начавшая вырисовываться яснее и яснее. Вот уже показались серые мрачные крепостные стены и круглые башни, от которых веяло жестокостью и ужасом средневековья…
Мы подходим к массивным дубовым воротам, над которыми хищный двуглавый орел — эмблема деспотизма и дикого насилия — распростер свои железные крылья. Под ним памятная надпись «Государева».
Нагибаясь, один за другим мы прошли через калитку ворот и очутились внутри Государевой башни.
Обдало запахом плесени и сырости…
Нас повели направо от входа — в новое, только что выстроенное здание, носившее название четвертый корпус. В подвальном этаже корпуса помещались: столярная мастерская, цейхгауз, две кочегарки парового отопления и десять карцеров, из которых три были темные. Первый этаж занимали кабинеты начальника Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, и его помощников, канцелярия, а также камеры свиданий и библиотека. Над ними в двух этажах были устроены: ткацкая, сапожная и портновская мастерские. Над карцерами располагались в четыре этажа одиночные камеры» [124] Симонович В. А. Указ. изд. С. 8–9.
.
Ситуативно это описание схоже с воспоминаниями Веры Николаевны Фигнер:
«Мы прошли в ворота. И тут я увидела нечто совсем неожиданное. То была какая-то идиллия.
Дачное место? Земледельческая колония?
Что-то в этом роде — тихое, простое…
Налево — длинное белое двухэтажное здание, которое могло быть институтом, но было казармой… Направо — несколько отдельных домов, таких белых, славных, с садиками около каждого, а в промежутке — обширный луг с кустами и купами деревьев. Листва теперь уже опала, но как, должно быть, хорошо тут летом, когда кругом все зеленеет! А в конце — белая церковь с золотым крестом. И говорит она о чем-то мирном, тихом и напоминает родную деревню».
Но различий в этих описаниях больше, чем сходства…
И дело не только в новых постройках, поднявшихся внутри крепости…
Белый храм Иоанна Предтечи, как стоял, так и продолжал стоять в крепостном дворе, и хотя вновь прибывших арестантов сразу повели направо в новое , только что выстроенное здание четвертого корпуса , не увидеть церковь, напомнившую Вере Николаевне Фигнер родную деревню, они не могли.
И здесь следует говорить не столько об изменении пейзажа, сколько о переменах в самом душевном устройстве шлиссельбуржцев, как выражался Григорий Евсеевич Зиновьев, «второго призыва».
Для многих народовольцев атеизм был не столько осознанным и усвоенным учением, сколько протестом. Горячо отстаивая атеистические взгляды, деятели «Народной воли» тем самым продолжали прерванную борьбу, но души их сопротивлялись этому, и вопреки железной логике разума народовольцы начинали ощущать живительную теплоту православия. Даже в описании событий, связанных с прямым отрицанием веры, все равно оставалось неконтролируемое пространство, куда вмещались и храм, и священник…
«Медленными усталыми шагами выходит одинокая черная фигура священника, согбенная тем, что он видел и опускается, скорбная, на скамью близ церкви». [125] Фигнер В. Н. Запечатленный труд. 1928. С. 235.
Это из воспоминаний В. Н. Фигнер о казни террориста Степана Валерьяновича Балмашева, повешенного 3 мая 1902 года на малом дворе цитадели…
А священник, согбенный тяжестью совершившегося, — настоятель храма Иоанна Предтечи протоиерей Иоанн Маркович Флоринский.
То, что Вера Николаевна замечает его, сопереживает его одиночеству и его скорби — не случайно.
«Идеи христианства, которые с колыбели сознательно и бессознательно прививаются всем нам, — писала она, — внушают осужденному отрадное чувство, что наступил момент, когда делается проба человеку, испытывается сила его любви и твердость духа, как борца за те идеальные блага, добыть которые он стремится не для своей скоропреходящей личности, а для народа, для общества, для будущих поколений».
В воспоминаниях шлиссельбуржцев «второго призыва» такого понимания христианства уже не встретишь.
В новом каторжном централе — а здесь сидели участники севастопольского восстания и эсеры-террористы, обычные уголовники и большевики, — огонь народовольческого атеизма полыхал теперь углями злобного, как у Варфоломея Стояна (Чайкина), глумления над святынями, и остывал золой глухого равнодушия…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



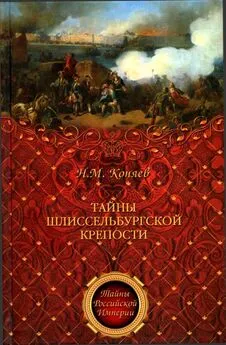




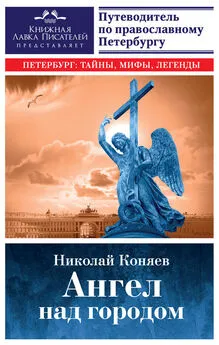
![Николай Коняев - Петербург: неповторимые судьбы [Город и его великие люди]](/books/1068195/nikolaj-konyaev-peterburg-nepovtorimye-sudby-gor.webp)
