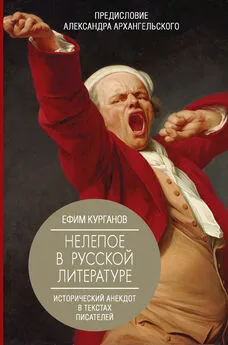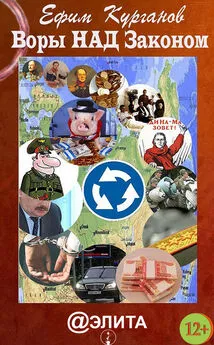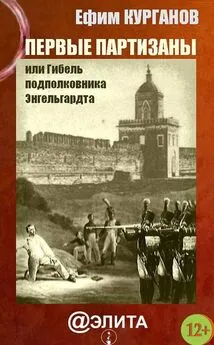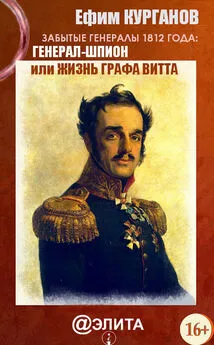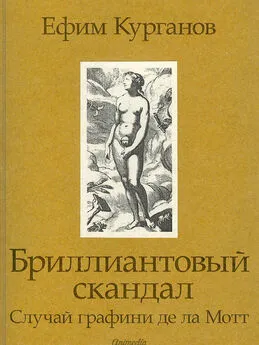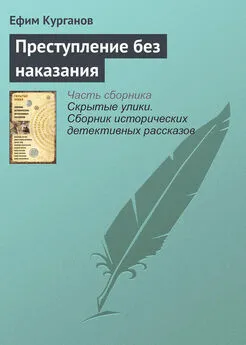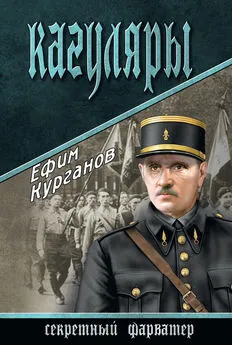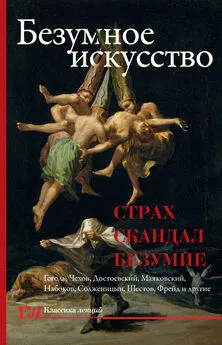Ефим Курганов - Нелепое в русской литературе: исторический анекдот в текстах писателей
- Название:Нелепое в русской литературе: исторический анекдот в текстах писателей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Издательство АСТ»
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-133292-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ефим Курганов - Нелепое в русской литературе: исторический анекдот в текстах писателей краткое содержание
Эта книга похожа на детективное расследование, на увлекательный квест по русской литературе, ответы на который поражают находками и разжигают еще больший к ней интерес.
Нелепое в русской литературе: исторический анекдот в текстах писателей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Вот наш Парнас! Наши поэты, наследники Пушкина, – в том же восторге говорил энтузиаст, – вот тот, который говорит: это Майков Аполлон! Направо – Полонский Яков Петрович, налево – Плещеев Алексей Николаевич, а вот там, на другой стороне, сидит Фет, – не унимался энтузиаст, – то есть теперь Шеншин – он, как сказал Тургенев, променял этим имя на фамилию» [145] Достоевский в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 410.
.
Фет-Шеншин, известный лирик, проезжая по Моховой, опускал в карете окно и плевал на университет. Харкнет и плюнет: тьфу!
Кучер его так привык к этому, что всякий раз, проезжая мимо университета, останавливался [146] Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 12. М., 1949. С. 332.
.
К проблеме «анекдот у Достоевского»
Открываем первую главу второй части романа Достоевского «Подросток». К Аркадию Долгорукому приходит его приемный отец Версилов, приходит, чтобы помириться (они были в ссоре). Гостя встречает квартирохозяин, вступает в беседу и начинает рассказывать анекдот о камне, который англичане и даже сам великий архитектор Монферран сдвинуть с дороги не могли, а вот простой торговец фруктами, выходец из Ярославской губернии, с легкостью нашел выход из сложившегося положения. И далее у Достоевского следует весьма обширное рассуждение о петербургских анекдотах, во многом связанных как раз с темой камня:
– Ах, боже мой, этот анекдот я слышал.
– Кто этого не слышал, и он совершенно даже знает, рассказывая, что ты это наверно уж слышал, но все-таки рассказывает, нарочно воображая, что ты не слыхал. Видение шведского короля – это уж у них, кажется, устарело; но в моей юности его с засосом повторяли и с таинственным шепотом, точно так же как и о том, что в начале столетия кто-то будто бы стоял в сенате на коленях перед сенаторами. Про коменданта Башуцкого тоже много было анекдотов, как монумент увезли… [147] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 13. Л., 1975. С. 167–168.
Остановимся сейчас на последней фразе из этого рассуждения. Мне кажется, она не совсем понятна и даже по-своему загадочна. О каком увезенном монументе идет речь? Достоевский не оставил тут никаких своих пояснений.
А. С. Пушкин в октябре-ноябре 1825 года послал А. А. Дельвигу письмо, в котором был такой стихотворный куплет:
Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
Повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался.
«Я не знал!.. Ужель?» –
Царь расхохотался.
«Первый, брат, апрель!» [148] Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. 2. Изд. 3-е. М., 1963. С. 316.
В этом своем куплете поэт пересказал один весьма популярный в 20–30-е годы XIX столетия петербургский анекдот, но пересказал крайне неточно. Буря не повалила памятник, а он якобы был увезен, украден, – в этом как раз и заключалась главная соль анекдота. Скоро поясню, о каком памятнике идет речь.
Из записной книжки Нестора Кукольника, который был не только поэтом, драматургом, романистом, но еще и создателем петербургской анекдотической летописи. И, в частности, он зафиксировал целый цикл анекдотов о комендантах Санкт-Петербурга, чьим отличительным качеством была исключительная глупость (это обер-полицмейстер Н. И. Рылеев, комендант Зимнего дворца П. П. Мартынов и, наконец, П. Я. Башуцкий, петербургский комендант):
Судьба наших комендантов замечательна. Как все острое приписывалось князю Меншикову, так все глупое относилось к комендантам, и все нелепости, как наследство, переходили от одного к другому, так что не разберешь, что принадлежит Башуцкому, а что Мартынову [149] Цит. по изд.: Е. Я. Курганов. Анекдот как жанр. СПб, 1997. С. 96.
.
Среди персональных анекдотов о коменданте Башуцком есть анекдот о том, как царь Александр Павлович подшутил над ним, сообщив, что украли памятник Петру Первому на Сенатской площади и Башуцкий поверил. Выше я уже цитировал его, здесь дам фрагмент:
– Господин комендант! – сказал Александр Первый в сердцах Башуцкому. – Какой у вас порядок? Можно ли себе представить? Где монумент Петру Великому?..
– На Сенатской площади.
– Был да сплыл! Сегодня ночью украли. Поезжайте разыщите.
Башуцкий, бледный, уехал. Возвращается веселый, довольный, чуть в двери кричит:
– Успокойтесь, Ваше Величество! Монумент целехонек, на месте стоит! А чтобы чего на самом деле не случилось, я приказал к нему поставить часового.
Все захохотали:
– Первое апреля, любезнейший [150] Курганов Е. Я. Анекдот как жанр. СПб, 1997. С. 97.
.
Именно этот анекдот и имел в виду Достоевский в первой главе второй части романа «Подросток».
Об историческом анекдоте: Николай Лесков и Андрей Платонов
Николай Лесков, своего рода русский «теневой» классик, великий, непревзойденный мастер слова, вдруг оказался крайне важен и даже необходим для русской прозы двадцатых – тридцатых годов XX столетия. Данную тенденцию выявил и проследил в свое время Б. М. Эйхенбаум в статье «Лесков и современная проза», причем сделал это под совершенно определенным углом зрения. Испытывая явный теоретический интерес к проблеме сказа, ученый через феномен Лескова обозначил особую сказовую линию в русской прозе:
…Эти явления, отодвинутые в сторону развитием и инерцией романа, выплывают сейчас в качестве новой традиции – именно потому, что для современной прозы заново получила принципиальное значение проблема повествовательной формы – проблема рассказывания. Об этом свидетельствуют такие факты как сказки и рассказы Ремизова, последние вещи Горького, очерки Пришвина, рассказы Зощенко, Вс. Иванова, Федина, Никитина, Бабеля и др. [151] Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987. С. 413.
.
Эта сказовая линия была очерчена Б. М. Эйхенбаумом в высшей степени убедительно и эффектно, более того, совершенно уместно, правомерно и в научном отношении абсолютно корректно. Следует только заметить, что поэтика Лескова никоим образом не исчерпывается проблемой сказа.
В богатейшем наследии писателя есть и иные линии, например анекдотическая; причем она представлена у Лескова весьма разнообразно.
И эта анекдотическая линия лесковской прозы также вдруг оказалась необычайно актуальной в 20–30 годы XX столетия. Об этом как раз и пойдет сейчас речь. Ограничимся одной великолепнейшей парой: Николай Лесков – Андрей Платонов.
Множество очерков, рассказов и повестей Лескова было ориентировано на анекдоты, и не только на фольклорные, но и на исторические. Учеными неоднократно, хоть и не слишком часто, делались на этот счет наблюдения [152] Богданович А. И. Лесков – писатель-анекдотист // Мир Божий. 1897. № 1. Отд. 2. С. 5–7; Столярова И. В. Функция анекдота в рассказе «Шерамур» // Теория и история литературы. Киев, 1985. С. 139–151.
.
Интервал:
Закладка: