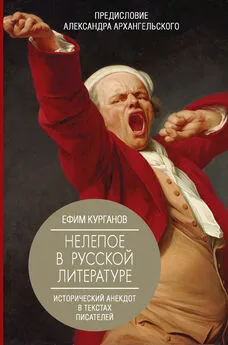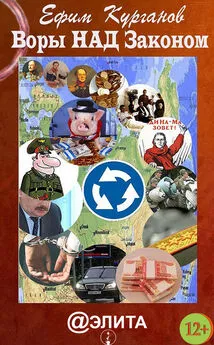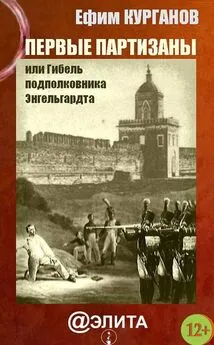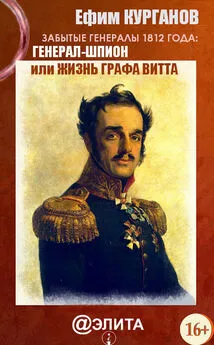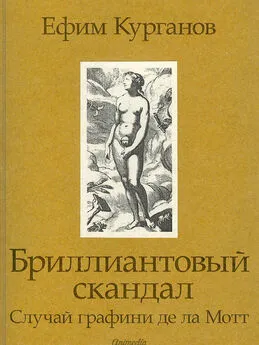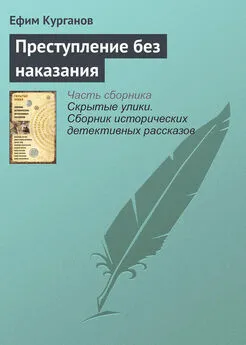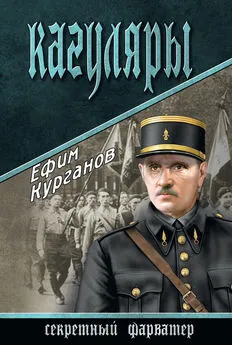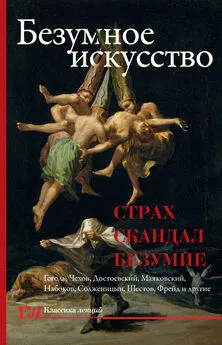Ефим Курганов - Нелепое в русской литературе: исторический анекдот в текстах писателей
- Название:Нелепое в русской литературе: исторический анекдот в текстах писателей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Издательство АСТ»
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-133292-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ефим Курганов - Нелепое в русской литературе: исторический анекдот в текстах писателей краткое содержание
Эта книга похожа на детективное расследование, на увлекательный квест по русской литературе, ответы на который поражают находками и разжигают еще больший к ней интерес.
Нелепое в русской литературе: исторический анекдот в текстах писателей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так, Всеволожский, как с горьким ехидством замечает Лесков, задумал и осуществил опаснейшую «ересь»: построил для своих крестьян каменные дома:
Всеволожский ввел ересь: он стал заботиться, чтобы его крестьянам в селе Райском стало лучше жить, чем они жили в Орловской губернии, откуда их вывели. Всеволожский приготовил к их приходу на новое место целую каменную деревню [159] Лесков Н. С. Загон // Собр. соч.: в 6 т. Т. 6. М., 1974. С. 220.
.
Об удобстве жить в каменных домах крестьяне Всеволожского не только не помышляли, но и не желали ничего подобного, радуясь своим «беструбным избам». Они приобрели дешевые срубы, а каменные дома загадили:
…«Переведенцы» сейчас же «из последних сил» купили себе самые дешевые срубы, приткнули их где попало, «на задах», за каменными жильями, и стали в них жить без труб, в тесноте и копоти, а свои просторные каменные дома определили «ходить по ветру», что и исполняли [160] Там же. С. 221.
.
Повествование о том, как крестьяне Всеволожского распорядились построенными для них каменными домами (слова «в свои просторные каменные дома определили «ходить по ветру»…» – это была пуанта анекдота), Лесков дополняет рассказом о брошюре В. П. Бурнашева «О целебных свойствах лоснящейся сажи», подчеркивая, что распространению этой книжонки обязаны были содействовать все исправники. Автор же «Загона» глубоко иронически оценивает эту брошюру как гимн курным избам. В понимании Лескова сам Бурнашев в своем отношении к новшествам европейского быта оказывается во многом сродни крестьянам Всеволожского, загадившим новые каменные дома и поселившимся в «беструбных избах». Этот вывод явился пуантой второй истории.
К случаю с брошюрой Бурнашева Лесков присовокупляет еще рассказ о разных технических нововведениях, которые богач Всеволожский завел и пробовал использовать в своих многочисленных имениях (плуги, веялки, молотилки, кирпичеделательные машины и т. д.).
А затем следует рассуждение, ключевое в контексте парадоксальной историософской, а вернее историко-анекдотической, концепции «Загона» – можно сказать, это пуанта истории о технических нововведениях Всеволожского:
Это было грустное и глубоко терзающее позорище!.. Все это были хорошие, полезные и крайне нужные вещи, и они не принесли никакой пользы, а только сокрушили тех, кто их припас здесь [161] Лесков Н. С. Загон // Собр. соч.: в 6 т. Т. 6. М., 1974. С. 221.
.
Так незаметно, постепенно, но последовательно автором из обзора брошюры «О целебных свойствах лоснящейся сажи», документов, свидетельств, происшествий, воспоминаний выстраивается грандиозная метафора ЗАГОНА:
Настало здравомыслие, в котором мы ощутили, что нам нужна опять «стена» и внутри ее – загон [162] Там же. С. 234.
.
Концепция Российской империи как некоего ЗАГОНА, с жесткой иронией сформулированная Лесковым, стала как нельзя более актуальна с введением при Сталине «железного занавеса», когда насмехались над лучшими порядками и стали внушать, что дурное хорошо, а хорошее дурно и что все свое априорно лучше, чем чужое. И совершенно закономерно, что был создан новый творческий эквивалент лесковского «Загона». Им оказался гениальный рассказ Андрея Платонова «Епифанские шлюзы».
Обратившись к обстоятельствам и документам Петровской эпохи, Андрей Платонов остановился на материалах о строительстве шлюзов, которые должны были соединить Волгу и Оку.
Неимоверные усилия, которые были затрачены британским инженером Бертраном Перри, руководившим возведением шлюзов, оказались совершенно напрасными:
Вечное посмешище установили, великие тяготы народные расточили [163] Платонов А. П. Епифанские шлюзы // Избранное. М., 1983. С. 32.
.
Принесенные жертвы оказались не нужны. Причем епифанские бабы, в отличие от опытного, но вместе с тем наивного британского инженера, об этом заранее уже знали:
А что воды мало будет и плавать нельзя, про то все бабы еще год назад знали. Поэтому и на работу все жители глядели как на царскую игру и иноземную затею [164] Там же. С. 32.
.
В самом деле, по выстроенному каналу, как подчеркивает автор, могла проплыть разве что лодка, да и то не везде:
Через неделю все водные ходы были, и Трузсон (французский генерал на русской службе, прибывший по приказу царя Петра инспектировать шлюзы. – Е.К .) посчитал, что и лодка не везде пройти может, а в иных местах аж и плота вода не подымет. А царь приказал глубину устроить, чтобы десятипушечным кораблям безопасно по ней плавать можно было [165] Платонов А. П. Епифанские шлюзы // Избранное. М., 1983. С. 32.
.
А вот сам Бертран Перри причину неудачи со шлюзами предпочитал видеть отнюдь не в самой Епифани, а в себе, в своих неверных технических расчетах, ну и, может быть, еще в климате, но никак не в Епифани как некоей косной субстанции:
Страх и сомнение ужалили гордость Перри, когда он возвращался в Епифань. Петербургские прожекты не посчитались с местными натуральными обстоятельствами, а особо с засухами, которые в сих местах нередки. А выходило, что в сухое лето как раз каналам воды не хватит и водный путь обратится в песчаную сухопутную дорогу.
По приезде в Епифань Перри начал пересчитывать свои технические числа. И вышло еще хуже: прожект составлен был по местным данным 1682 года, лето которого изобиловало влагой… Перри догадался, что и в средние по снегам и дождям годы каналы будут маловодны, что по ним и лодка не пройдет [166] Платонов А. П. Епифанские шлюзы // Избранное. М., 1983. С. 27.
.
А ведь воевода епифанский вовсе не брал в голову проблему технических расчетов и, совершенно не думая о средних снегах и дождях, с самого же начала заявил британскому инженеру:
Слухаю, Бердан Рамзеич, слухаю, сударь! Только ни хрена не выйдет, вот тебе покойница мать… [167] Там же. С. 22.
Причина приключившейся катастрофы заключалась не столько в технических просчетах, сколько в том обстоятельстве, что дело происходило в Епифани, в которой все устроено совершенно иначе, чем это можно представить по петербургским прожектам.
И обречено было не только возведение шлюзов, обречен был сам британский инженер. В изображении Андрея Платонова он не просто погиб (и погиб страшно, под пыткой), а буквально исчез, растворился, и его забыли, как будто его и не было никогда – Епифань его попросту поглотила:
Епифанский воевода Салтыков получил в августе, на яблошный спас, духовитый пакет с марками иноземной державы. Написано на пакете было не по-нашему, но три слова по-русски:
БЕРТРАНУ ПЕРРИ ИНЖЕНЕРУ.
Салтыков испугался и не знал, что ему делать с этим пакетом на имя мертвеца. А потом положил его от греха за божницу – на вечное поселение паукам [168] Платонов А. П. Епифанские шлюзы // Избранное. М., 1983. С. 36.
.
Интервал:
Закладка: