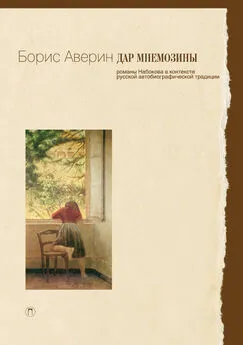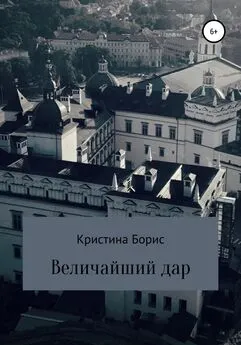Борис Аверин - Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции
- Название:Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2016
- ISBN:978-5-521-00007-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Аверин - Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции краткое содержание
Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Последние три главы «Жизни Арсеньева» – это непрестанное воссоздание образа Лики в памяти оставленного ею героя.
Ее образ иногда обретает здесь глубину, которую нельзя было предположить по предыдущим ее описаниям. Арсеньев смотрит на икону Богоматери, и происходит «странное, кощунственное соединение в мыслях: Богоматерь – и она, этот образ – и все то женское, что разбросала она тут в безумной торопливости бегства» (VI, 283).
Попытка такого «кощунственного соединения» осуществилась во многих произведениях символистов и в русской религиозной мысли конца XIX – начала ХХ веков. Она проявилась в философии Вл. Соловьева, в теории Мережковского о необходимости единения «бездны духа» и «бездны плоти» – в теории, ставшей столь популярной, что это противопоставление очень скоро превратилось в штамп. Ограничимся всего парой примеров подобного соединения плотского и божественного. Блок:
Только губы с запекшейся кровью
На иконе твоей золотой… [320]
(это строки из стихотворения «Унижение», где речь идет о греховной любви в публичном доме). Другой пример – из поэзии уже не символистской. Ахматова:
…Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом… [321]
Оппозиция «духовность/телесность» пронизывает весь роман Бунина – и лишь в последнем его абзаце это становится не противопоставлением, а единством: спустя десятилетия после смерти Лики Арсеньев видит ее во сне «с такой душевной и телесной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда» (VI, 288).
Заметим, что смерть героини – единственный факт, резко расходящийся в романе с подлинными событиями биографии Бунина. Его возлюбленная Варвара Пащенко – основной прототип Лики – после разрыва с ним благополучно вышла замуж и прожила еще более двадцати лет. Смерть героини нужна была Бунину, чтобы замкнуть цепь изображенных в романе смертей, соединить далекое прошлое с настоящим, с переживанием уже не двадцатилетнего Арсеньева, а пятидесятилетнего повествователя, чтобы через событие смерти и через преодоление его памятью соединить тему неосуществимости любви и неосуществимости творчества, преобразив их в этом финальном соединении в наконец достигнутую осуществленность как творчества, так и любви. Именно в этот момент автор ставит точку: его роман теперь завершен.
6. Смерть
Тема смерти требует в связи с темой воспоминания особого рассмотрения. Связь этих двух тем в творчестве Бунина обдумывал еще Ф. Степун. Обсуждению их специфики в бунинском творчестве он предпослал пространное рассуждение: «Есть, в сущности, две смерти. Смерть как подкрадывающийся извне к о н е ц нашей жизни <���…> – и смерть как неустанно происходящее в нас умирание нашего прошлого и настоящего. <���…> Над первой смертью мы не вольны. Вне благодатной веры она сплошной ужас и трепетание твари. Над второй смертью у нас есть власть. Имя этой власти – искусство. Магический жест этого искусства – память. Конечно, не та „вечная память“, о сотворении которой молится церковь при отпевании умершего, но все же таинственно связанная с нею. В сущности, каждый подлинный художник – творец вечной памяти и заклинатель смерти; великое подлинное искусство – прообраз и предвосхищение в земных условиях последней мистерии, обещанной нам, мистерии воскресения наших неустанно во времени умирающих дней к вечной жизни в преображенной плоти. Оба облика и оба переживания смерти всегда тесно связаны между собой. Формы этой связи у разных людей различны, но для всех нас одинаково определительны и показательны. Для творчества Бунина характерно сочетание какого-то предельного, кальвинистически-мрачного отчаяния и трепетания твари перед крышкой гроба с редкой силой творческого преображения земных обликов и свершений нашей бренной жизни. Сочетание это не случайно. Бунин сам прекрасно и глубоко вскрывает его религиозный смысл, объясняя свое стремление к „словесному ремеслу“ страхом перед „гробом беспамятства“» [322].
В каждой из первых четырех книг «Жизни Арсеньева» появляется подробное описание панихиды, похорон, отпевания. Уже в самом начале романа после предложения, начинающегося словами «Я родился…», идут размышления о смерти.
Человек – часть природы и вынужден покориться ее законам. Истина эта открылась Алеше Арсеньеву со всей неумолимостью: «Я вдруг понял, что и я смертен <���…> что все земное, все живое, вещественное, телесное непременно подлежит гибели, тлению <���…> И моя устрашенная и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением к Богу» (VI, 44). Алеша Арсеньев часами стоит на коленях, читает жития, носит власяницу, «пребывая в полубезумных», «восторженно-горьких мечтах» (в рукописи первоначально было: «восторженно-сладких мечтах»), находя во всем этом «болезненный восторг», «скорбные радости» (VI, 45). Эта экзальтация проходит естественно, до обыденности просто: «Длилось это всю зиму. А к весне стало понемногу отходить – как-то само собой. Пошли солнечные дни, стало пригревать двойные стекла, по которым поползли ожившие мухи, – трудно было не развлекаться ими среди „земных метаний“ и коленопреклонений» (VI, 45).
Описанный фрагмент свидетельствует о том, как хорошо знакомо Бунину потрясение, вызванное сознанием собственной смертности – но и о том, что состояние это не может долго длиться. По мнению Бунина, неверие в смерть заложено в человеке, присутствует в его подсознании («У нас нет чувства своего начала и конца» – VI, 7). Ощущение бессмертия есть для Бунина непонятное, но важнейшее в человеке. Отсюда – нередко встречающееся у Бунина отсутствие трагизма в описаниях восприятия смерти. В отличие от Толстого, Бунин не рассказывает о душевном состоянии и мыслях человека перед смертью – он предпочитает описывать восприятие смерти окружающими.
Главы романа, в которых повествуется о похоронах, отпеваниях или панихиде, всегда трудно давались Бунину. Перед написанием наиболее важных финальных глав второй книги, как бы внутренне готовясь к ним, он на три месяца оставил работу над романом и писал рассказы. Один из них – «К роду отцов своих» – по своему содержанию и настроению явился своеобразным вариантом последней главы второй книги.
Тема рассказа – восприятие человеком смерти. Начинается он с того, что черничка привозит гроб для умершего хозяина усадьбы. Но ни черничка, ни девка, которая ее встречает и «оживленным дружественным» шепотом расспрашивает, «сколько дали за гроб», ужаса, трагизма встречи со смертью не ощущают. Скорее наоборот, уставшая черничка, завтракая в доме умершего, «когда тепло и душисто запахло кофе», чувствует «несказанную сладость жизни» и, «намазывая хлеб маслом», просто и деловито спрашивает об умершем: «А он где лежит-то?» (V, 381). По Бунину, подобное отношение к смерти не есть результат черствости, неразвитости или неумения мыслить. Другой персонаж рассказа, богатый и умный мужик Семен, «лучше всякого» знает библейскую истину, «что человек в чести не будет: он уподобится животным, которые погибают». Но и для него смерть как бы не существует. И он продолжает наслаждаться «каждой минутой чудесной погоды и дружной, спорой работы» (V, 383). Правда, в предпоследней главе рассказа появляется друг умершего – лесник. Его искреннее горе и ужас при виде покойного заставили «всех вдруг побледнеть». Однако небольшая заключительная главка окончательно снимает ощущение трагизма: «В полдень все кончилось. Мирную жизнь живых уже ничто более не нарушало <���…> и все возвратились на обычную стезю свою. За церковью, против окон алтаря, в блеске спокойного и кроткого солнца лежал длинный глиняный бугор, но он уже никому не был ни нужен, ни страшен» (V, 385).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: