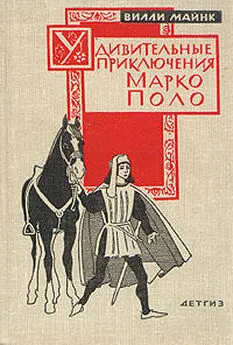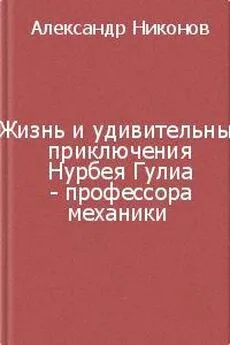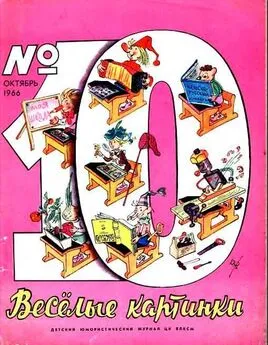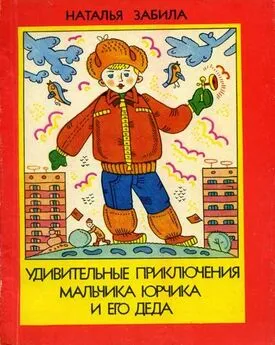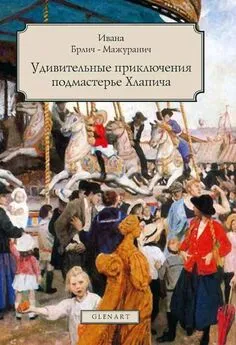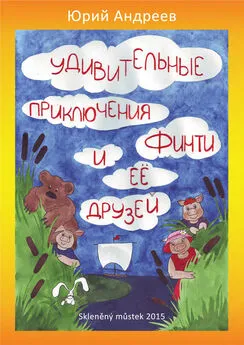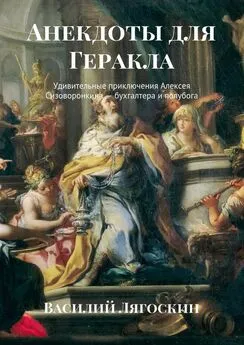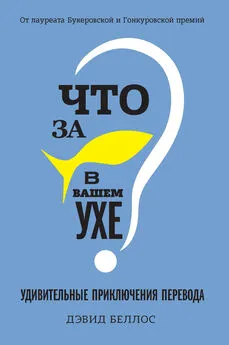Дэвид Беллос - Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода]
- Название:Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-16787-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Беллос - Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода] краткое содержание
Дэвид Беллос
Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для того чтобы подчеркнуть какую-то часть французского предложения, эту часть перемещают в начало, а на ее прежнее место ставят местоимение или слово-пустышку. Например, если вы хотите поспорить с детьми о том, какое лакомство купить на ярмарке, то по-английски можно сказать: But I want ice cream [103] А я хочу мороженое ( англ. ).
, подчеркнув интонацией, что вам хочется мороженого, в то время как дети просят сахарную вату. По-французски это обычно выражается так: «я» в специальной форме ставят в начало, а потом повторяют: Moi, je veux une glace. «Смещение налево», как чаще всего называют этот синтаксический прием, постоянно используется французами как в устной речи, так и на письме при различных обстоятельствах, а не только в спорах с детьми. В корпусе объемом 45 000 слов, составленном из отрывков современных французских романов, получивших награды, этот оборот встретился 130 раз. Однако в аналогичном корпусе, созданном на базе столь же успешных переводных романов, он был использован всего 58 раз. Такое очевидное различие не может быть списано на индивидуальный стиль переводчика. Похоже, что третий код реально существует {114} 114 McLaughlin M. (In)visibility: Dislocation in French and the Voice of the Translator // French Studies. 2008. 61.2. P. 53–64.
.
Еще интереснее — и особенно важно для понимания деятельности переводчиков — то, что в корпусе переводов на французский «смещение налево» в основном встречается в определенном виде контекста — в диалогах, в то время как в текстах, изначально написанных по-французски, более половины вхождений приходится на изложение от третьего лица. Ни одно из вхождений в обоих корпусах не является грамматически ошибочным или стилистически неприемлемым, но очевидно, что языковая норма, которой (намеренно или невольно) следуют переводчики английских романов на французский, отличается от нормы французских писателей.
Причину этой конкретной особенности «третьего кода» французского найти нетрудно. В учебниках французской грамматики и при обучении французскому в школе «смещение налево» традиционно упоминают как особенность устной речи. Видимо, переводчики усвоили этот урок, несмотря на то что он противоречит наблюдаемой практике писателей — носителей французского. То есть переводчики тяготеют к нормализованному языку и более внимательны к общепринятым представлениям о правильности. Вообще-то все, у кого есть опыт перевода, это знают. Переводы стремятся к центру, следуя тем лингвистическим шаблонам, которые считаются стандартными, независимо от того, как обычно говорят носители. Поэтому участь английских переводчиков, редактируемых до уровня английский-минус, не уникальна. Похоже, что французские переводчики сами идут тем же путем, не дожидаясь, пока за дело возьмется редактор.
Стремление переводов к стандартам принимающего языка ярко иллюстрирует судьба региональных и социальных диалектов. Бурнизьен, один из второстепенных персонажей «Мадам Бовари» Флобера, комично использует в разговоре словечки и обороты, типичные для региона, где происходит действие, — сельской Нормандии 1830-х. Понятно, что в английском нет стандартного способа отразить речь сельских обитателей Нормандии XIX столетия. В принципе Бурнизьен мог бы у переводчика заговорить по-английски, как уэссекский фермер Томаса Харди или шотландский проповедник Вальтера Скотта. Но в переводах не принято передавать региональный диалект оригинала региональным диалектом принимающего языка {115} 115 К исключениям относится перевод «Войны и мира» ( Tolstoy L. War and Peace / Trans. and with an introduction of R. Edmonds. Penguin Books, 1957), в котором Платон Каратаев говорит на простонародном английском, отдаленно напоминающем йоркширский диалект.
. Большинство нынешних читателей сочтет нелепым, если баварская молочница станет изъясняться как техасский ковбой или если пассажирка петербургского трамвая заговорит на манчестерском диалекте, потому что переводчику надо подчеркнуть, что ее питерские словечки далеки от московской нормативной речи. Современная культура перевода на английский, французский и многие другие языки требует избавляться от региональных вариаций оригинала. Она сдвигает письменное представление диалектной речи к центру.
Очевидный сдвиг к центру делает Шарль Бодлер при переводе рассказа «Золотой жук» Эдгара По. Персонаж рассказа, афроамериканский раб Юпитер, выражается примерно так: Dar! dat’s it! — him never plain of notin — but him berry sick for all dat [104] Вот так — он никогда ни на что не жалуется, но он все еще болен ( искаж. англ. ).
. Бодлер не пытается подобрать подходящий французский диалект, он просто передает то, что хотел сказать Юпитер стандартным французским: Ah! Voilà la question! — il ne se plaint jamais de rien, mais il est tout de même malade.
А что еще мог сделать Бодлер? Во Франции XIX века не было ресурсов для передачи английского изображения речи афроамериканцев {116} 116 См.: Wallaert I. The Translation of Sociolects: A Paradigm of Ideological Issues in Translation? // J. Cotterill and A. Ife (eds.). Language Across Boundaries. British Association for Applied Linguistics, 2001. P. 171–184.
.
Как ни странно, подобный подход нетипичен по отношению к вариациям формы и стиля, обусловленным не регионом, а социальной принадлежностью. Высокопарный, напыщенный, изысканный или величественный стиль оригинала принято передавать соответствующими социальными стилями языка принимающего. Серьезные трудности возникают только при передаче речи низших классов, особенно людей необразованных. Эта трудность характерна для всех видов перевода, не только для перевода художественной литературы. Например, устному переводчику и в голову не придет воспроизводить произношение низших классов для лучшей передачи заезжему иностранному чиновнику особенностей речи фермера или заводского рабочего: это будет звучать неуважительно и может привести к серьезному скандалу. Письменные переводчики тоже не решаются неуклюже передавать неуклюжие обороты оригинала. Причины очевидны: грамматические ошибки, неправильное словоупотребление и другие разновидности малограмотной речи не должны быть отнесены на счет переводчика. Даже бред психически больного человека переводить проще, чем намеренно грубый и вульгарный язык многих современных романов. Полная стерилизация непристойных классических произведений, проводившаяся во Франции в XVII веке (см. с. 150), совершенно вышла из моды, но что-то подобное происходит почти в каждом переводе.
Эффекты «третьего кода», обнаруженные в переводе (не только на французский, но и на норвежский, шведский и английский), как и сильное предубеждение против региональных вариантов, на самом деле всего лишь побочные следствия менее очевидной, но гораздо более общей тенденции всех переводов: более строгого, чем в оригинальных текстах, следования норме целевого языка. Иначе говоря, при переводе регистр и уровень оригинального текста всегда на пару пунктов повышается. Некоторая степень повышения есть и всегда была характерной чертой переводных текстов — просто потому, что переводчики инстинктивно избегают обвинений в том, что они не очень грамотно пишут на целевом языке. Так что трудно переоценить роль переводчиков как хранителей и — до удивительной степени — создателей стандарта целевого языка.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Дэвид Беллос - Что за рыбка в вашем ухе? [Удивительные приключения перевода]](/books/1068186/devid-bellos-chto-za-rybka-v-vashem-uhe-udiviteln.webp)