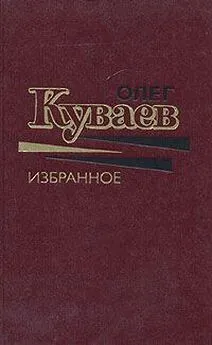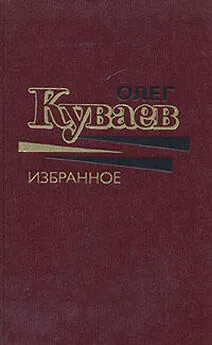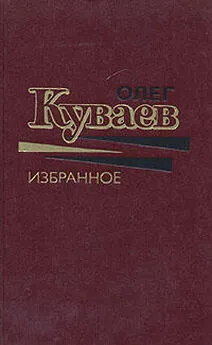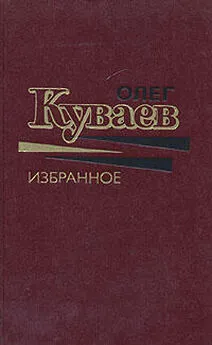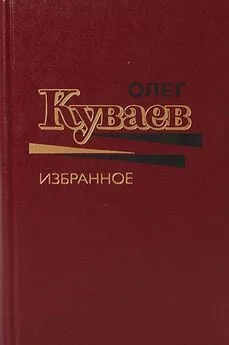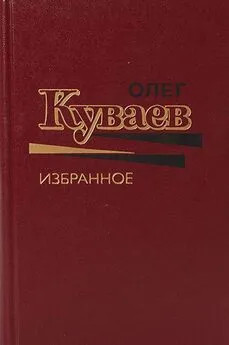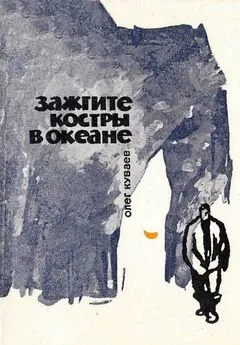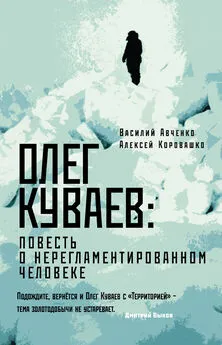Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]
- Название:Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2020
- ISBN:978-5-17-119911-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres] краткое содержание
Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Здесь уместно поднять вопрос об отношении беспартийного и даже бросившего комсомол Куваева к советской власти, тем более что идеологические позиции писателя требуют более подробного рассмотрения.
На первый взгляд, поводов почтительно относиться к нагромождениям обкомов и горкомов у Куваева не было. Ещё в начале 1960-х он записывает: «Мрачное, чёрт его возьми, время! Неужели всё время будет засилие этих прикрытых корочками партбилетов идиотов?» (справедливости ради заметим, что подобные высказывания у Куваева редки: политика его не очень волновала). Или позднее письмо: «В нашей действительности честной литературы, не заказанной „идеологическими“ органами, быть не может. А те, кто заказывает, глупы и не понимают, что нашей идеологии нужна именно честная настоящая проза…» Но и к большинству кухонных диссидентов, к тем «антикоммунистам», которых, например, Довлатов ненавидел больше, чем «коммунистов», Куваев относился скептически. «Вся эта мансардная шобла, бывшие дружки Мирона (Этлиса. – Примеч. авт. ), – трепачи они и шизофреники. У меня горит душа о другом. О смысле человеческой, любой человеческой жизни» (Алле Федотовой, 1974 год). «Мансардная шобла» – это как раз диссиденты или, точнее, диссидентствующая богема. Куваев и самому Этлису, сидевшему в начале 1950-х по политической статье, писал: «Не знаю, Мирон, за какие идеи шёл ты в лагерь, каким ты парнем тогда был, но знаю твёрдо одно – добейтесь вы власти, вы точно так же слали бы в лагеря других, инакомыслящих, как слали вас. Может быть, ещё более изощрённо, так как интеллигент, добивающийся власти, всегда мне кажется страшноватым, да и сама власть имеет какой-то трансцендентный механизм, изменяющий души людей».
Говоря об отношении Куваева к этому механизму, к той форме государственного устройства, которая существовала на одной шестой части суши в период его активной писательской деятельности, необходимо разграничивать несколько тесно связанных, но всё же очень разнородных явлений. Во-первых, соответствующие оценочные суждения в той или иной форме, иногда довольно явной, иногда – подспудной, содержатся непосредственно в художественных текстах писателя, требующих в этом случае целенаправленного, вдумчивого чтения. Во-вторых, важно понимать, ощущал ли Куваев разницу между конкретной и довольно специфической формой социализма в отдельно взятой стране и тем коммунистическим идеалом, который каждодневно провозглашался на страницах советской печати, звучал в речах докладчиков в ходе самых разных совещаний и провозглашался в трудах основоположников марксизма-ленинизма. В-третьих, имеет смысл проводить чёткую демаркационную линию между «просоветскими» или, наоборот, «антисоветскими» высказываниями куваевских персонажей, обусловленными их повествовательной функцией, и собственной социальной философией автора «Правил бегства» и «Территории». Наконец, всегда следует учитывать несовпадение мнений Куваева, прошедших через «фильтры» различных литературных жанров, и тех его суждений, которые без какой-либо оглядки на предполагаемого внешнего цензора обрели место на страницах дневников и записных книжек.
Начнём с того, что мир, который встаёт перед читателем куваевских книг, не имеет ничего общего с парадной моделью советского общества. Герои Куваева официально живут в царстве победившего социализма, но действительность, которая их окружает, мало напоминает выставку достижений тотально торжествующей справедливости. Скажем, в «Печальных странствиях Льва Бебенина», где одна из сюжетных линий связана с подпольным рынком «стоматологического» золота, затронута тема теневой советской экономики. Поведение многих куваевских персонажей, в том числе и тех, кто облечён властью, не может восприниматься в качестве образца для подражания, обнаруживая двуличие, лживость и следование корыстным интересам.
Яркий пример такой раздвоенности – жизненный путь отца Семёна Рулёва из «Правил бегства». Куваев ничего напрямую не говорит о роде его занятий, ограничиваясь лишь намёком на то, что он принадлежал либо к достаточно высокопоставленным представителям партийно-хозяйственной номенклатуры, либо к сотрудникам органов безопасности. Деятельность Рулёва-старшего накладывала отпечаток и на внешние приметы домашнего быта, протекавшего в интерьерах роскошной по тогдашним временам трёхкомнатной квартиры («портрет вождя на стене, и в книжном шкафу ничего, кроме строго идеологически выдержанных собраний сочинений»), и на общую психологическую атмосферу в семье, жившей под его «тяжкой дланью». Однако показная правильность этого таинственного службиста, наверняка состоящего в рядах ВКП(б), не мешает Рулёву-младшему искренне считать родителя «крупным подлецом, который всё делал вовремя». Удивлённому такой неожиданной оценкой Возмищеву он разъясняет: «Знаешь, есть люди, предрасположенные к подлости. Когда затевается большая, сильная подлость, они тут как тут. Безнаказанно издеваться над теми, кто втрое выше тебя, – разве не счастье? Жрать в три горла и между глотками бормотать про высшие идеалы – ну разве не наслаждение?» На вопрос Возмищева, что же в итоге произошло с подлецом такого значительного масштаба, Рулёв-младший отвечает несколько туманно: «Он умный мерзавец. Ушёл ровно за год до закрытия лавочки. Заболел, пенсию получил. Стало не до него». Эта многозначительная иносказательность обусловлена, с одной стороны, художественной логикой (Возмищев не настолько близок Семёну Рулёву, чтобы тот рассказывал ему важные подробности из жизни своего отца), а с другой – теми негласными запретами, которыми в семидесятые годы минувшего века контролирующие литературу инстанции ограждали тему репрессий и культа личности. Допустимо предположить, что Рулёв-старший мог служить в МГБ или в МВД (в первом случае – под началом Абакумова, во втором – под началом Круглова и патронажем самого Берии), но в начале 1950-х годов, не дожидаясь радикального перетряхивания этих органов, спровоцированного борьбой различных властных группировок после смерти Сталина, предусмотрительно захворал, уволился и провёл остаток дней в покое и благополучии.
Двойная жизненная «бухгалтерия», присущая всей советской системе на самых разных уровнях, нашла отражение и в семейной истории Возмищева. Так, размышляя о том, где ему раздобыть заказанную научным руководителем деликатесную копчёную рыбу «с низовьев сибирских рек», он прикидывает возможность решить эту задачу в пределах Москвы. «Мать моя, – прокручивает один из вариантов Возмищев, – работает в закрытой, видно привилегированной, точке. Там, видно, не простые смертные жуют антрекоты. Не работяги. Значит, можно чёрта жареного достать».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]](/books/1068511/aleksej-korovashko-oleg-kuvaev-povest-o-nereglame.webp)