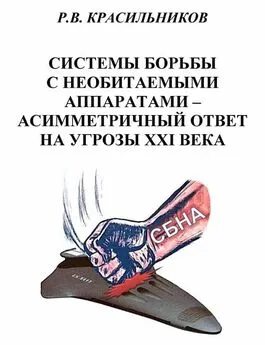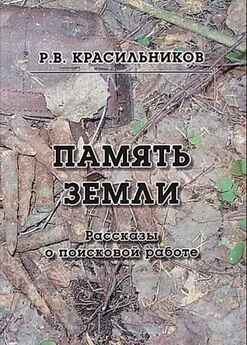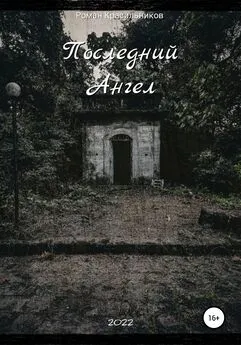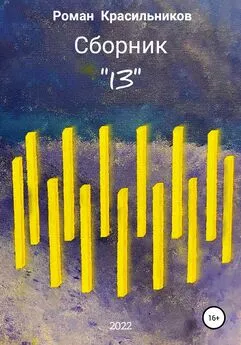Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]
- Название:Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Знак
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-94457-225-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию] краткое содержание
Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
39
В лингвистике подобное описание актантного состава называют анализом валентности. Относительно литературных мотивов понятие валентности может иметь и другое значение: их сочетание на оси высказывания с другими сюжетными компонентами, например мотивом любви.
40
О некоторых аспектах функционирования образа жертвы в культуре см. книгу Д. Хьюза «Культура и жертва» [Hughes 2007].
41
О мотиве дуэли в русской литературе (XIX–XX вв.) см. монографию И. Рейфман [Рейфман 2002], статью М. Абашевой [Абашева 2006]. Дуэли между поэтами как своеобразному феномену литературной жизни посвящен оригинальный труд А. Кобринского [Кобринский 2007]. Важное место литературные примеры занимают и в других работах о дуэли [Востриков 2004; Гордин 2002].
42
О теме казни в литературе см., например, статью И. Яновской [Яновская 2004]. Важные замечания по функционированию и значению института казни в культуре вообще содержатся в известной книге М. Фуко «Надзирать и наказывать» [Фуко 1999: 5—102].
43
Образу потустороннего мира и мотиву загробного путешествия (т. н. «орфическому сюжету») посвящены, например, статьи Т. Рытовой [Рытова 2002], А. Асояна [Асоян 2004], Е. Куликовой [Куликова 2004], А. Мазура [Мазур 2004].
44
В. Никитаев применяет этот подход непосредственно к феномену смерти, образуя понятие «герменевтика смерти» [Никитаев 2005].
45
Интересная попытка типологизировать культуры с религиозной точки зрения предпринята, в частности, в статье Л. Седова [Седов 1989].
46
См. об этом статью М. Ясаковой [Ясакова 1998].
47
Существует обширный коллективный труд, посвященный представлениям о смерти и потустороннем мире у древних кельтов и германцев; во многих статьях в нем исследуются литературные источники (см. [Представления о смерти у древних кельтов и германцев 2002]). См. также о византийских представлениях о смерти [Стельник 2011].
48
В этот процесс эвфемизации вписывается и наша работа, в центре которой стоит не сама смерть, а «танатология», «танатологические мотивы».
49
Может происходить и обратный метафорический перенос, когда танатологические лексемы имеют нетанатологические значения («смерть дня», «смерть колокола», «спать мертвым сном» и т. п.), однако подобные случаи не рассматриваются в нашей работе.
50
В психоанализе выделяются различные комплексы танатологического характера. Кроме Эдипова комплекса, связанного с убийством отца, исследователи бессознательного указывают на комплексы Электры (убийство сыном матери), Медеи (убийство детей матерью), Сатурна (убийство детей отцом) (см. о сатурнианском мифе [Эко 2007: 174]).
51
Н. Горюцкая пишет о чертах некрофилии в творчестве В. Брюсова [Горюцкая2008: 184].
52
Понятие «письмо о смерти» в значении особой дискурсивной практики встречается, к примеру, в книге Г. Штайнерта, посвященной танатологическим проблемам в творчестве Т. Бернхарда и других писателей второй половины XX в. (см. [Steinert 1984]).
53
Психоаналитическая идея «пренатального состояния» используется, например, И. Островских при интерпретации рассказа А. Чехова «Человек в футляре» [Островских 2004].
54
О проблеме разграничения фабулы и сюжета см. также [Кожинов 1964; Цилевич 1972; Егоров 1978 и т. д.].
55
В концепции П. Рикера подобное упорядочение, направленное на построение интриги называется операцией «конфигурации», в дальнейшем, в акте чтения, реципиент осуществляет «рефигурацию» [Рикер 1998,1: 80, 94].
56
Понятие субъектной организации используется, например, в теоретической концепции Б. Кормана: «Субъектная организация есть соотнесенность всех фрагментов текста, образующих данное произведение, с субъектами речи, теми, кому приписан текст (формально-субъективная организация), и субъектами сознания – теми, чье сознание выражено в тексте (содержательно-субъектная организация)» [Корман 2006: 247].
57
В. Тюпа указывает, что понятие «фокализация» Ж. Женетта восходит к термину «фокус наррации», введенному К. Бруксом и Р. Уорреном [Тюпа 20016: 50].
58
Глоссализация в повествовательном тексте – признак драматического начала, которое максимально реализуется, конечно же, в самих драматических произведениях (см. также 2.6).
59
О сюжетообразующих возможностях мотива см. также известную статью Б. Путилова [Путилов 1975].
60
И. Сухих указывает на еще одно любопытное высказывание А. Чехова по этому поводу: «Не даются подлые концы! Герой или женись, или застрелись, другого выхода нет» [Сухих 1990: 65].
61
На концовки в творчестве И. Бунина обращает внимание и Д. Святополк-Мирский: «Тема самоубийства, дожившая до наших дней, обернулась такой самопародией в “Митиной любви” Бунина, где прием – конечно, бессознательно – “обнажен” и ничем не оправдан, кроме традиционной необходимости кончить рассказ» [Святополк-Мирский 1997: 363].
62
Творчество Ф. Сологуба справедливо относят к символизму, однако манера повествования во многих произведениях писателя вполне реалистическая; для него характерно стремление воссоздать возможные факты действительности и сопоставить их с проявлениями фантастического.
63
Проблема несовпадения фабульных и сюжетных элементов, конечно же, уже ставилась представителями сюжетологии (см. [Левитан 1969: 12]).
64
Ср. «завершенное» повествование о самоубийстве Мошкина в «Голодном блеске»: «А зеленовато-золотистая вода канала манила. И погас, погас голодный блеск в глазах. Так звучен был мгновенный всплеск воды! И побежали, кольцо за кольцом, матово-черные кольца, разрезая зеленовато-золотистые воды канала» [Сологуб 2000, III: 480].
65
О мотиве как тема-рематической структуре см. [Тюпа 1996а: 8; Силантьев 2004: 66–67].
66
Эротические мотивы сочетаются с танатологическими также в «Царице поцелуев» и «Красногубой гостье».
67
Пер. Т. Щепкиной-Куперник.
68
Танатологическое пророчество занимает важное место в героическом эпосе. Исследователи античной литературы отмечают, что подобное предсказание зачастую озвучивается умирающим персонажем, которому «смерть открывает высшее знание»: так у Гомера Патрокл и Гектор пророчат смерть своим более удачливым врагам [Семина 1990: 95].
69
О подобной внутритекстовой модальности пишет и П. Рикер: «Действительно, для того чтобы можно было что-либо рассказать, необходимо и достаточно, чтобы определенное действие прошло через три фазы: ситуация, открывающая некую возможность, актуализация этой возможности и окончание действия». Возможность в схеме П. Рикера актуализируется или нет, в свою очередь актуализация возможности приводит к достижению или недостижению цели: «Эта серия дихотомических возможностей удовлетворяет условиям одновременно регрессивной необходимости и прогрессивной случайности» [Рикер 1998, II: 47].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]](/books/1069648/roman-krasilnikov-tanatologicheskie-motivy-v-hudozh.webp)