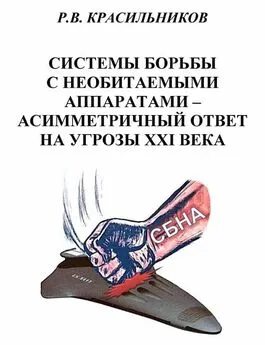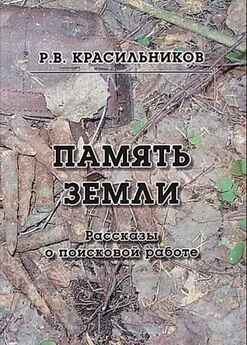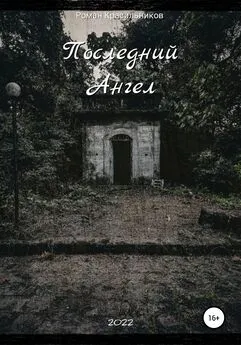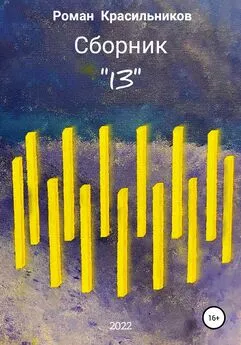Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]
- Название:Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Знак
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-94457-225-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию] краткое содержание
Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
70
Считается, что термин «актант» был введен в научный оборот Л. Теньером [Теньер 1988: 117].
71
А. Секацкий отмечает: «Не исключено, что страх перед покойником образует первую собственно человеческую эмоциональную ауру, из которой черпает более поздняя и сложная эмоциональная дифференциация» [Секацкий 1996: 24].
72
Д. Зеленин выделяет два «разряда» умерших: «К первому разряду относятся т. н. родители, т. е. умершие от старости предки; это покойники почитаемые и уважаемые (…). Совсем иное представляет собою второй разряд покойников, т. и. мертвяки или заложные. Это – люди, умершие прежде срока своей естественной смерти, скончавшиеся, часто в молодости, скоропостижною несчастною или насильственною смертью. (…) Это покойники нечистые, недостойные уважения и обычного поминовения, а часто даже вредные и опасные» [Зеленин 1995: 39–40].
73
В целом, конечно же, понятие покойника («навь») нельзя полностью отождествлять с нечистой силой, которая и «не жила» («нежить») (см. [Власова 1995: 245, 251]). В исландских поверьях отличались изначально «живые» мертвецы и те, кого «оживляли» по каким-либо причинам [Березовая Н. 2002: 230].
74
Об утопленниках и русалках в фольклоре и литературе см., например, статьи Е. Преженцевой и Т. Соромотиной [Преженцева 2001], Е. Кузьменковой [Кузьменкова 2003]
75
Вопрос о вере в привидения активно обсуждался в романтической среде, например, В. Жуковский посвятил этой проблеме одну из своих поздних статей (см. [Виницкий 1998]). Об эволюции образа привидения в русской литературе XIX в. см. работу И. Айзиковой [Айзикова 2006].
76
Пер. М. Лозинского.
77
Здесь нельзя не сослаться на интереснейшую работу И. Созоновича, посвященную «Леноре» и связанным с ней фольклорным текстам. Исследователь возводит сюжет о мертвом женихе к античной легенде о Протесилае и Лаодамии [Созонович 1893: VI]. Образ мертвого жениха изучается и в статьях Ю. Шатина [Шатин 1997], Г. Козубовской [Козубовская 2001; 2005], Н. Ермаковой [Ермакова Н. 2002].
78
Мотив игры со смертью оказывается не так уж чужд феномену смерти вообще. В частности, существует тесная этимологическая связь между понятиями агона и агонии [Ромашко 2006]. Понятие танатологической игры разрабатывает Ю. Семикина [Семикина 2004].
79
В фантастическом ключе решена встреча с покойниками в рассказе «Бобок», который С. Телегин называет «книгой мертвых» Ф. Достоевского [Телегин 2002].
80
Об образе покойника в фельетонах М. Булгакова см. статью Н. Вертянкиной [Вертянкина 2002].
81
По поводу этого феномена иронизирует Л. Андреев в рассказе «Жертва». Елена Дмитриевна бросается под поезд, чтобы обеспечить с помощью страховой выплаты безбедное существование своей дочери и ее мужа, которые после случившегося обустраивают свой быт по-мещански.
82
О бретерстве как психологическом феномене см. [Востриков 2004: 291–308].
83
О топосах и пространстве смерти см. работы Н. Проданик [Проданик 1998; 2000], П. Новиковой [Новикова П. 2005], Н. Рабкиной [Рабкина 2008].
84
Понятие танатологического хронотопа используется, например, в статье Ю. Семикиной [Семикина 20056].
85
Ю. Семикина указывает на возможность соединения танатологических разработок с онейрологическими, направленными на изучение сна человека [Семикина 2006: 410].
86
О танатологической функции вестника пишет О. Фрейденберг: «Такие глашатаи являются одновременно вестниками; сперва боги, они затем становятся вестниками богов. В греческой трагедии они – рабы, вестники смерти, возвещающие о ней как о подвиге, только что претерпленном за сценой» [Фрейденберг 1997: 169].
87
Я. Мукаржовский указывает на особую темпоральность лирики: «В лирике временной последовательности нет. Время лирики – настоящее время, но отнюдь не актуальное настоящее, (…) это время без признаков его течения…» [Мукаржовский 1996: 251].
88
О проблеме определения этого жанрового образования существует несколько работ [Фризман 1973; 1991; Афанасьев 1983].
89
Танатологический компонент элегической традиции проявлялся и в других видах искусства (см. [Панофский 1999]).
90
Функционирование этого жанра в русской литературе рассмотрено в книге Ю. Стенника [Стенник 1981], где, правда, танатологические проблемы практически не анализируются.
91
О проблеме жанровости этих произведений см. статью О. Мякотных [Мякотных 2007].
92
О некоторых аспектах данной проблемы см. работы Н. Мостовской [Мостовская 1996], У. Никелла [Никелл 2000], В. Кисселя [Kissel 2004].
93
См. также специальные исследования, посвященные особому «пасхальному» тексту в русской литературе [Захаров 1994; Есаулов 2004; Николаева 2004; Проскурина 2006]. Танатологические сюжетные ситуации свойственны и «святочным» рассказам [Душечкина 1995].
94
О танатологических мотивах в средневековой дидактической поэзии см. [Williams 1976; Matsuda 1997; Spoerri 1999].
95
Из исследовательских работ, посвященных образу войны в литературе, следует прежде всего отметить монографию О. Цехновицера [Цехновицер 1938].
96
О развитии «готической» литературы в России конца XVIII – начала XIX вв. см., например, книгу В. Вацуро [Вацуро 2002].
97
Например, Ю. Бабичева отмечает по поводу детективного жанра: «Характер преступления в большинстве сюжетов – убийство, то есть высшая форма недозволенного деяния человека против человечности. “Детектив без убийства, что омлет без яиц”, – пошутил как-то американский писатель Сатерленд Скотт» [Бабичева 2005: 104].
98
См., например, статью М. Чебраковой о мотиве смерти в сказках О. Уайльда [Чебракова 2009].
99
Термин восходит к понятию «научная парадигма», введенному Т. Куном в книге «Структура научных революций», где он обозначает «всю совокупность убеждений, ценностей, технических средств и т. д., которая характерна для членов данного сообщества» [Кун 2003: 259].
100
И. Бройтман указывает на древнегреческие трактаты VII в. до н. э. и восточные II–IX вв. [Теория литературы 2007, II: 117]. Данная литературоведческая концепция соотносима с историческими и философскими идеями К. Ясперса, называвшего время пробуждения рефлексии человека (между 800 и 200 гг. до и. э.) «осевым» [Ясперс 1991: 32].
101
Подробнее о мотиве всепобеждающей смерти-триумфаторе в барочной эстетике см. [Wentzlaff-Eggebert 1975].
102
Семантика и символика macabre до сих пор является предметом дискуссий между учеными. М. Федорова отмечает два аспекта этого феномена: «С одной стороны, мысль о том, что каждому человеку – своя смерть (…). А с другой стороны – идея о том, что смерть уравнивает все неравенства мира живых, все превращает в прах и тлен» [Федорова 1991: 31]. См. также о значении memento mori и «плясок смерти» в статье О. Новиковой [Новикова О. 1987: 53–54], диссертации М. Галлера [Galler 2007: 37–81] и т. д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]](/books/1069648/roman-krasilnikov-tanatologicheskie-motivy-v-hudozh.webp)