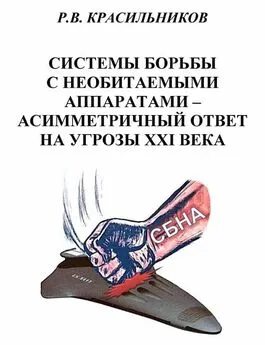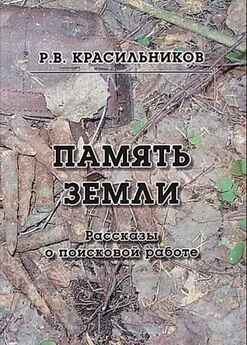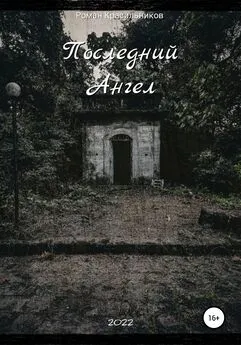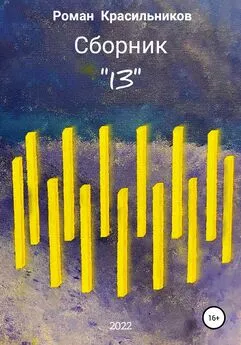Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]
- Название:Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Знак
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-94457-225-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию] краткое содержание
Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мотивы и сюжетные ситуации как фрагменты текстов входят в нарративную структуру (нарративную композицию) произведения. Точка зрения на событие (нарративная инстанция) влияет на оформление мотива, его риторическую и эстетическую репрезентацию. В этом случае понятие сюжета соотносится с понятием нарратива (наррации, повествования), основным признаком которого является изложение «некой истории» (см. [Женетт 1998, II: 66; Шмид 2008: 17–18]).
Среди различных аспектов структуры произведения обратим внимание на два, на наш взгляд, краеугольных: нарративную организацию танатологических мотивов и их функциональное месторасположение (соотнесенность с границами текста). При этом постараемся учесть и другие стороны нарратива, прежде всего вероятные нарушения темпорального порядка в повествуемой истории.
Начнем с проблем нарративной организации произведения, так как в дальнейшем знание о ней будет регулярно использоваться при характеристике различных сторон танатологических мотивов.
Данный вопрос относительно мотива смерти, по всей видимости, впервые рассматривает М. Бахтин в заметках 1961 г. в контексте рассуждений о субъектной организации произведения.
Литературовед сравнивает способы изображения смерти в творчестве Ф. Достоевского и Л. Толстого. Начав с количественной характеристики: «У Достоевского вообще гораздо меньше смертей, чем у Толстого» [Бахтин 1997: 346], – он видит основное различие парадигмы смерти у этих двух авторов в позиции человека, рассказывающего об умирании. О Л. Толстом: «Причем – и это очень характерно – смерть он изображает не только извне, но изнутри, т. е. из самого сознания умирающего человека, почти как факт этого сознания. Его интересует смерть для себя, т. е. для самого умирающего, а не для других, для тех, которые остаются. Он, в сущности, глубоко равнодушен к своей смерти для других». О Ф. Достоевском: «Достоевский никогда не изображает смерть изнутри. Агонию и смерть наблюдают другие. Смерть не может быть фактом самого сознания. (…) Дело в том, что смерть изнутри нельзя подсмотреть, нельзя увидеть, как нельзя увидеть своего затылка, не прибегая к помощи зеркал. Затылок существует объективно, и его видят другие. Смерти же изнутри, т. е. осознанной своей смерти, не существует ни для кого, ни для умирающего, ни для других, не существует вообще. Именно это сознание для себя, не знающее и не имеющее последнего слова, и является предметом изображения в мире Достоевского» [Бахтин 1997: 347].
Выведенная М. Бахтиным оппозиция «смерть извне» – «смерть изнутри» касается уже структуры, организации самого танатологического мотива. Она может стать критерием для противопоставления художественных систем разных авторов, указывая на более глубокие, антропологические основания: «В мире Достоевского смерть ничего не завершает, потому что она не задевает самого главного в этом мире: сознания для себя. В мире же Толстого смерть обладает известною завершающей и разрешающей силой» [Там же: 348]. Следовательно, единообразие композиционного (нарративного) решения относительно изображения умирания дает возможность сделать заключение об авторском отношении к смерти.
Данные типы можно дифференцировать и далее: в соответствии с современными нарратологическими идеями различаются фокусы наблюдения (фокализация [57] В. Тюпа указывает, что понятие «фокализация» Ж. Женетта восходит к термину «фокус наррации», введенному К. Бруксом и Р. Уорреном [Тюпа 20016: 50].
) и речевые характеристики повествования (глоссализация) (об этом см., например, [Тюпа 2006: 57, 65]), проще говоря – ответы на вопросы: «Кто видит?» и «Кто говорит?». Их разграничение затруднено различными нарративными смещениями: наличием внутренней речи, не обозначаемой кавычками, проникновением «всеведущего» нарратора в сознание действующих лиц, сообщением одним персонажем слов другого и т. д. Если подходить формально к дифференциации фокализации и глоссализации, то, заметим, танатологические мотивы или репрезентируются через высказывания персонажей или нет: в «Подпрапорщике Гололобове» или «У последней черты» М. Арцыбашева действующие лица охотно разговаривают о смерти, излагая свои танатологические концепции [58] Глоссализация в повествовательном тексте – признак драматического начала, которое максимально реализуется, конечно же, в самих драматических произведениях (см. также 2.6).
; в «Молчании» или «Елеазаре» Л. Андреева значимой особенностью главных персонажей – девушки, готовящейся к самоубийству, и вернувшегося с того света существа – является молчание.
В то же время в заметках М. Бахтина речь идет, по всей видимости, о фокализации. Современные исследователи увеличивают количество возможных точек зрения, уточняя их специфику. Ж. Женетт выделяет три вида фокализации – «нулевую» (повествование ведется с точки зрения «всеведущего» нарратора), «внутреннюю» (повествование ведется с точки зрения персонажа), «внешнюю» (повествование ведется с точки зрения объективного нарратора, не имеющего доступа в сознание персонажа) [Женетт 1998, II: 205–209]. В. Тюпа, развивая идеи Ф. Штанцеля, пишет о «сказовом повествовании» («относительно субъективном, оценочном изложении событий рассказчиком, наделенным локализованной (в мире произведения) точкой зрения и соответственно более или менее ограниченным кругозором»), «хроникерском» («относительно объективном свидетельском описании событий их непосредственным участником или наблюдателем со своим кругозором») и «аукториальном» (описании событий «всеведущим» автором, не ограниченным «определенной позицией во времени и в пространстве») [Тюпа 2006: 49–50]. В. Шмид расширяет эту типологию до четырех членов: недиегетический нарратор с нарраториальной точкой зрения («не является персонажем в повествуемой истории»); диететический нарратор с нарраториальной точкой зрения («присутствующий как повествуемое “я” в истории» и «применяющий точку зрения “теперешнего”, т. е. повествующего “я”»); недиегетический нарратор с персональной точкой зрения («занимает точку зрения одного из персонажей, который фигурирует как рефлектор»); диететический нарратор с персональной точкой зрения («повествует о своих приключениях с точки зрения повествуемого “я”») [Шмид 2008: 124–125]. Важно замечание немецкого литературоведа о том, что «связывать эти типы с определенными произведениями не так уж легко, поскольку в большинстве случаев точка зрения – явление не постоянное, а изменчивое» [Там же: 124]. Интересно, что В. Тюпа и В. Шмид в качестве иллюстраций к некоторым типам повествования и нарративных инстанций приводят фрагменты произведений с танатологическими мотивами: повести М. Лермонтова «Фаталист», романа Л. Толстого «Анна Каренина», рассказа Ф. Достоевского «Кроткая».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе [Введение в литературоведческую танатологию]](/books/1069648/roman-krasilnikov-tanatologicheskie-motivy-v-hudozh.webp)