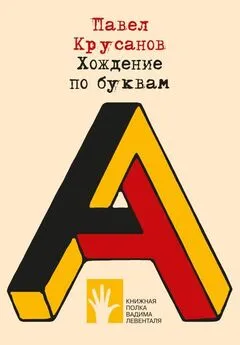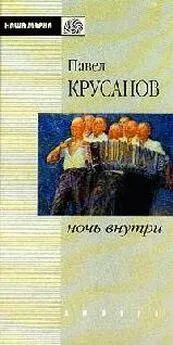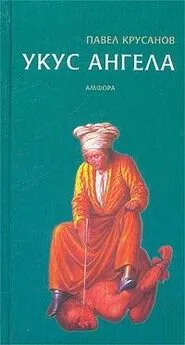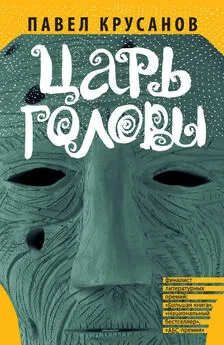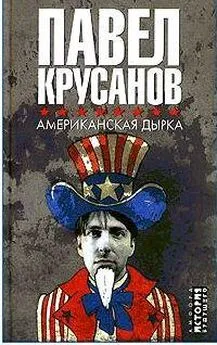Павел Крусанов - Хождение по буквам
- Название:Хождение по буквам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Флюид ФриФлай
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906827-09-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Крусанов - Хождение по буквам краткое содержание
Перед вами первая книга статей о литературе именно такого мастера – знаменитого писателя Павла Крусанова.
Хождение по буквам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так вот, все перечисленные типы авторствования представлены в «Литературной матрице». Они присущи текстам, как запах владельца – перчатке или башмаку, поскольку – да, есть объект письма, но ведь есть, чёрт возьми, ещё и я, субъект, и это большой вопрос, кто из нас двоих важнее. Понятно, что ценность литературной записи во многом зависит от читателя – насколько он способен одухотворить холодные чернильные слова. Но степень того внимания, которое автор уделяет в тексте самому себе, в то время как должен был бы уделить его герою своего повествования, заметна даже в том случае, если ваша читательская оптика настроена не идеально.
Что ж, после того, как «Матрица» прочитана, мы предлагаем вам сыграть в игру и выдать каждому из авторов его диагноз. Нет, речь не о том, хорошо написана статья или не очень, и не о градусе одарённости пишущего – одарённость определяется иначе, – но кое-что о человеческой натуре участников «Литературной матрицы» эта игра нам обязательно поведает. В конце концов, в художественной действительности (как и в любой другой) маньяки, конечно же, в итоге победят, тут нет никаких сомнений – об этом нам однажды убедительно поведала Татьяна Москвина. Ведь если перед обывателем оказывается выбор смерть мира или признание гения , обыватель разумно выбирает мир. И тем не менее психологический портрет – не персонажа, но автора – для нас, читателей, играет роль. Причём – далеко не последнюю. И коль скоро это так – вперёд, играем в наши игры.
Александр Иличевский. «Справа налево»
Вероятно, у каждого писателя должна быть книга, за которую ему впоследствии будет не то чтобы стыдно, но, скажем так, неловко. Казалось бы, зачем такие загогулины, однако художник – тонкая штучка, и, видимо, без определённого самоуязвления авторские переживания всегда будут тяготиться определённого рода неполнотой. Типа, только оступившись, художественно согрешив, нам дано понять глубинную неправоту греха. Вспомним Гоголя – «Ганц Кюхельгартен», «идиллия в картинках», или Чехова с его «мелочишками Антоши Чехонте». Всю жизнь они лелеяли свой неотменяемый позор (речь о самооценке). Что ж, Иличевский ступил на тропу великих и создал свой индивидуальный раздражитель – эстетический объект, который будет в дальнейшем томить автора и бередить в нём, высоким слогом выражаясь, совесть творца. Смелое решение.
У Иличевского есть очевидный пластический дар слова, который зачастую позволяет своим обладателям вытягивать довольно крупные повествовательные произведения без привлечения каких-либо вспомогательных одарённостей (таков, например, был Сергеев-Ценский), под которыми обычно подразумеваются глубина мысли, широта порыва, чёткое и динамичное сюжетостроение, парадоксальность логики и образа. Иличевский поступил решительно, не оставив себе ни малейшего шанса на успех, – он выбрал для создания индивидуального раздражителя такую форму, в рамках которой его пластический дар оказался бессилен и никак не смог бы (даже если бы помимо воли автора осмелился) помешать задуманному. «Справа налево» представляет собой собрание путевых заметок и оформленных в виде наблюдения или мысли зарисовок из записных книжек. Жанр почтенный, имеющий в мировой и отечественной словесности богатую историю. Вспомним Монтеня, Паскаля, а из отечественного – дневники Вяземского, афоризмы и заметки Чаадаева, Достоевский с «Дневником писателя», практически весь Розанов… Сказать таким господам «подвиньтесь» – жест дерзкий. Но поскольку автор имел в виду иную цель и решал сугубо личную задачу обеспечения себе полноценной мучительной рефлексии в будущем, воздержимся от оценки дерзновенности поступка.
Справедливости ради следует признать, что в начале книги, где читатель найдёт записки путешественника об Армении, пластический дар автора ещё пытается вступить в противоречие с замыслом своего носителя и искусно навевает некий гипнотический сон наяву. Однако по прошествии неполных тридцати страниц авторская воля берёт верх над сопротивлением таланта, и всё становится на свои места. (В середине есть ещё объемные заметки о Германии, но они уже никого не введут в заблуждение.) То есть автор, поддавшийся было древнему цеховому завету «делай так, чтобы не обнаружить предела своих умений», быстро сливает завет в нужник и откровенно демонстрирует границы собственных возможностей.
Действительно, в формате «наблюдений и мыслей» пластическому дару не размахнуться и не набрать необходимой критической массы, чтобы одурманить и очаровать заглянувшего в книгу читателя. Тут должны вступать в дело пронзающий укол мысли, взрывная метафора, леденящая душу картина, вводящий в восторженную немоту парадокс. Может, автор приберёг их на этот случай? Боже упаси. Ведь он замыслил неудачу, необходимость которой даже некоторым образом обосновал: «Если конструкция не способна качнуться, прогнуться, отклониться – она ломается. Если человек не умеет проигрывать, единственный проигрыш станет для него окончательным». Примерно такого уровня прозрения и есть высшие достижения авторской мысли. Вот, скажем, пассаж из рассуждений о взаимоотношении искусства и денег: «Искусство корыстно только в той степени, в которой оно способно обеспечить своё существование. Другое дело, что порой цена его высока. Иногда она превышает цену жизни».
Впрочем, не только интеллектуальной силой бывает славна литература. Может быть, в традициях новой искренности автор впадает в припадок исповедания и его записные книжки рассказывают нам, какой он стоеросовый дуболом и как бездарно просрал свою жизнь? Ничуть не бывало – автор лоснится и светится, он чист и даже немного поскрипывает, как будто только из бани. Что ж, тогда, может быть, автор зажигает на страницах книги указующие путь к вершинам духа этические маяки и описывает деяния невероятной доблести и жертвенности? Тут в точку – зажигает и описывает. Примером беззаветной доблести для Иличевского является физик Георгий Гамов, в 1932 году пытавшийся с подругой на байдарке уплыть из Крыма в Турцию. Тогда не получилось – помешала стихия, рок греческой трагедии. Получилось год спустя, когда он стал банальным «невозвращенцем», воспользовавшись приглашением на международный конгресс. Так автор и пишет: «…прорыв Гамова на байдарке с любимой девушкой за горизонт, а потом и в будущее науки, был вне конкуренции. И остаётся таковым и сейчас». Действительно, пусть Капица с Ландау, коллеги Гамова по цеху, в России веники вяжут, а настоящие пацаны, как свободные караси, плывут туда, где ангелы крошат для них батон.
Про самообожание и надутые щёки автора промолчу, с этим у него всё в порядке – черпай лопатой. Романтическая фигура, одинокий и гордый герой. Однако же – ни дня без строчки: ведь там, внизу, у подножья башни из слоновой кости замерла в ожидании вещих слов толпа. Накрошим ей из рабочих тетрадей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: