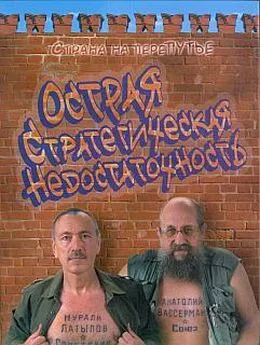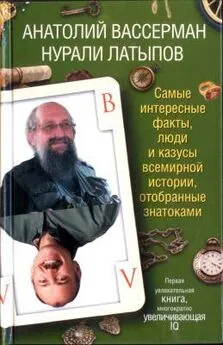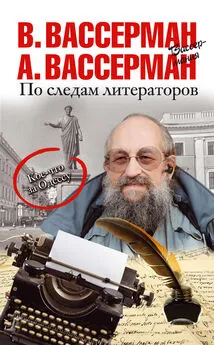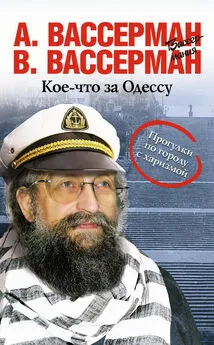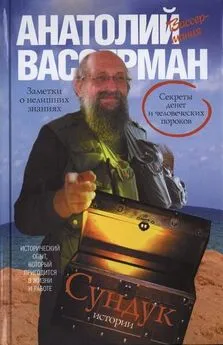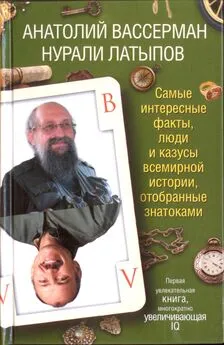Анатолий Вассерман - По следам литераторов. Кое-что за Одессу
- Название:По следам литераторов. Кое-что за Одессу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2017
- ISBN:978-5-17-106691-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Вассерман - По следам литераторов. Кое-что за Одессу краткое содержание
Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили. И во многих наших любимых произведениях есть маленькая частичка Одессы, к которой мы и предлагаем вам прикоснуться.
По следам литераторов. Кое-что за Одессу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Одесситы видят в Паустовском пример гипнотического действия, оказываемого нашим городом на творческих людей. Наверное, это – причина культа Паустовского в нашем городе. Музей, созданный общественностью; первый памятник писателю – в виде сфинкса в Саду скульптур Одесского литературного музея; упомянутая надпись «Улица Паустовского» – всё это как бы говорит: «Если даже этого писателя, такого далёкого по темпераменту и по литературному стилю от Одессы и её знаменитых литераторов, «пронял» наш город, то мы живём в удивительном месте».
Паустовского «проходили» в школе. Наверное, это был приговор: кто во взрослой жизни возвращается к писателю, включённому в школьную программу? Описание Мещерского края Паустовским порождало невыносимую скуку, не больше энтузиазма вызывала повесть «Кара-Бугаз» про одноимённый залив Каспийского моря, хотя именно эта повесть выдвинула Паустовского в первые ряды советских писателей в начале 1930-х годов. При этом фильм 1935-го года, снятый по ней Александром Ефимовичем Разумным (режиссёром «Лейтенанта Шмидта» – см. гл. 4), не был выпущен в прокат. Впрочем, за эту неудачу режиссёра – вопреки расхожим легендам – не репрессировали: он снял не только фильм «Тимур и его команда» (1940), заложивший (вместе с повестью Аркадия Гайдара, конечно) основы тимуровского движения, но и первый литовский художественный фильм «Игнотас вернулся домой», заложивший основы блистательного литовского кинематографа эпохи СССР (с ним мог конкурировать – при всей несхожести – только грузинский кинематограф).
Вернёмся, однако к Паустовскому. В школе мы его изучали прилежно, как и положено «круглым» отличникам, но не любили. Вот и Дмитрий Быков признался, что любит его потому, что сам много времени проводил, как и Паустовский, на Оке. Должно быть, поэтому Быков не включил Паустовского в свой учебник «Советская литература». А ведь ходили разговоры, что в 1965-м, когда Паустовского (и Ахматову) выдвигали на Нобелевскую премию по литературе, СССР заключил большой торговый договор на поставку нам шведских судов с тем, чтобы премию вручили Шолохову.
Мы не можем проверить, является ли Нобелевская премия Шолохову в большей степени заслугой министра внешней торговли СССР Николая Семёновича Патоличева [307]или самого Михаила Александровича. Но «Тихий Дон» – на самом деле величайший русский роман XX века, безусловно заслуживающий и высшей литературной награды и глубокого прочтения (у Паустовского – при всём нашем уважении к нему – нет произведений сравнимого размаха и глубины). Также советуем прочитать «Нобелевскую речь» Шолохова, где есть отсылки к Священному Писанию – и нет ничего про «руководящую и направляющую роль КПСС». Травли Пастернака это не искупает, но тем не менее…
Что-то мы всё отвлекаемся от Паустовского. Больше так не будем. Осенью 1958-го года в Тарусе на Оке Константин Георгиевич закончил книгу «Время больших ожиданий». Это была четвёртая из шести книг, составивших «Повесть о жизни». Она не успела войти в светло-коричневый шеститомник, выпущенный «Худлитом» в том же 1958-м нормальным для живого советского классика тиражом 300 000 экземпляров. Поэтому, когда в 1963-м году Паустовский заканчивает последнюю книгу – «Книга скитаний», все шесть повестей издают отдельным двухтомником.
Про Паустовского можно сказать много хорошего. Окуджава, конечно, льстил мастерам пера, когда писал (и пел):
Каждый пишет, как он слышит,
каждый слышит, как он дышит,
как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить…
но к Паустовскому это относится в полной мере. Такую честность в работе он привил и своим ученикам семинара прозы Литературного института имени Горького: Борису Исааковичу Балтеру, Юрию Васильевичу Бондареву, Инне Анатольевне Гофф, Юрию Валентиновичу Трифонову, Григорию Яковлевичу Фридману (Бакланову), Владимиру Фёдоровичу Тендрякову (кто, как мы, читал всех этих авторов, согласится с нашей оценкой). А ещё Паустовский – невероятное явление для «генерала идеологического фронта» (он заведовал кафедрой литературного мастерства Литературного института; извините за тавтологию – это не мы придумали) – не был членом КПСС, не написал ни строчки о Сталине, не подписал ни одного письма с осуждением «врагов народа».
Паустовский был составителем важнейших литературных сборников «оттепели»: «Литературная Москва» и «Тарусские страницы». Последний сборник вышел в Калужском книжном издательстве в 1961-м году тиражом «всего» в 75 тысяч экземпляров. Этот сборник – одна из жемчужин книжной коллекции семьи Владимира. Не будем перечислять авторов сборника, просто разместим содержание среди иллюстративного материала книги – сами оценИте!
А ещё, как сейчас принято говорить, «вишенка на торте». В своей книге «Воспоминания» Марлен Дитрих рассказала, что прочитав рассказ «Телеграмма», уже не могла забыть неизвестного ей ранее русского писателя. Потом она была «опьянена его прозой» [308]после прочтения двухтомной «Повести о жизни» и сожалела, что единственная встреча произошла на её концерте в Москве незадолго до смерти Паустовского.
Одесситы тоже «опьянены его прозой», когда читают «Время больших ожиданий». Вслед за Лениным, сказавшим (если верить очерку о нём Горького [309]) о Троцком « С нами, а – не наш », мы можем то же сказать о Паустовском, но нажимая на первую часть: «хоть не наш по биографии, без капли гедонизма, без южного темперамента, сочности и цветистости (и прозы и жизни), а с нами». Именно это так радует одесситов при чтении этой книги.
« Дни наши сочтены не нами », – мудро поучал Альбера « проклятый жид », он же « почтенный Соломон » в «Скупом рыцаре» Пушкина [310]. Паустовский, родившийся в 1892-м, был старше всех писателей «одесской школы». Даже раньше сформировавшийся как писатель Бабель был моложе его на два года, Багрицкий – на три, Катаев и Ильф – на пять, Олеша – на семь, Евгений Петров – на 10. Но только Валентин Петрович Катаев пережил Паустовского, прожив солидные 89 лет.
К моменту выхода «Времени больших ожиданий в 3–5-м номерах журнала «Октябрь» [311]за 1959-й год из всех упомянутых мастеров пера жив был только Олеша, да и то ушедший в глухое молчание, прерванное только посмертной (а смерть Олеши пришлась на следующий – 1960-й – год) публикацией «Ни дня без строчки». Перефразируя горинско-захаровского Мюнхгаузена: «Давно ли Вы продолжили публиковаться? Сразу после смерти».
Поэтому повесть, где даны такие прекрасные портреты друзей Паустовского, работавших с ним в газете «Моряк» и просто встречавшихся с ним в голодной, разорённой двумя войнами, но неунывающей и живущей большими ожиданиями Одессе, не могла не понравиться читателю – особенно одесскому. Конечно, Катаев чуть позже подарил нам большое число повестей и романов «за Одессу» своей юности. Но, во-первых, они написаны своеобразным и непростым стилем позднего Катаева, а во-вторых, опубликованы уже в 1960-е и 1970-е годы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: