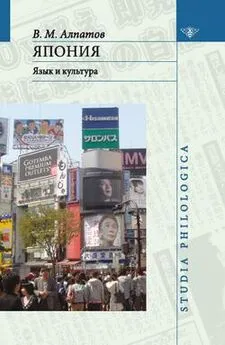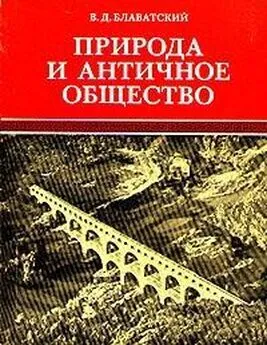Владимир Алпатов - Япония: язык и общество
- Название:Япония: язык и общество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:© Институт востоковедения РАН, © «Муравей»
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-8463-0093-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Алпатов - Япония: язык и общество краткое содержание
Япония: язык и общество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так строятся и более сложные тексты. Вот предвыборный рекламный плакат одного из кандидатов в Токийский муниципалитет от района Кото: Сэйдзицу, синкэн-но ко: до:, синдзию: курабу, кимура бэн, рё: гокуко:, кэйдайсоцу, куги-ники, тоги-ники ёндзю: госай 'Искренняя, серьезная деятельность, [партия] «Новый либеральный клуб», Кимура Бэн окончил среднюю школу [в районе] Рёгоку [и] университет Кэйо, два срока депутат районного муниципального совета, два срока депутат Токийского муниципалитета, 45 лет'.
Такие тексты очень компактны. В оригинале примера 33 знака, из них 29 иероглифов, три знака катаканы (заимствование курабу 'клуб'), один знак хираганы (показатель родительного падежа но ). В переводе без учета добавленных в скобках слов 192 знака, почти в 6 раз больше (знаки препинания в обоих случаях не учитываются). В устной речи такая компактность не наблюдается. Хотя здесь и можно сказать, например, кэйдайсоцу 'окончил университет Кэйо', но это слово будет с трудом понято на слух, к тому же оно не очень вежливо при обращении к конкретному человеку; в устной беседе скорее скажут полностью кэйо:-дайгаку-о соцугё:-симасита (с тем же значением). Еще один пример компактности сообщения. Информация, передаваемая у нас двумя способами: либо довольно длинной фразой Во дворе злая собака , либо рисунком собачьей морды (что занимает меньше места, но требует художественных способностей), по-японски передается изображением на табличке одного иероглифа со значением «собака», состоящего всего-навсего из трех черточек и одной точки. Выигрыш места и времени, затрачиваемого на написание, несомненен.
Такого рода компактность иероглифических текстов используется целенаправленно. Недаром, как можно видеть из примеров, они используются в целях воздействия, в том числе и политического, на читателя. Как справедливо указывается в современном исследовании, «японские стереотипы чрезвычайно лаконичны. Эта предельная сжатость достигается благодаря ценному качеству иероглифической письменности — возможности опускания служебных слов и словообразующих грамматических частиц [Последний термин не принят в языкознании Речь, видимо идет об аффиксах]. Таким образом, стереотип превращается в одно слитное понятие, обладающее, подобно сжатой пружине, большой энергией… Лаконизм достигается также путем опускания некоторых значащих слов, которые легко восстановить… Японские стереотипы обязаны своей яркостью изначальной образности иероглифических знаковых систем… При визуальном восприятии иероглифические стереотипы воздействуют иначе, чем знаки фонетического письма» [Чугров, 1985, с. 121–122]. Конечно, сама по себе иероглифическая письменность нейтральна к передаваемому содержанию, ее преимущества для воздействия на читающие массы могут использоваться по самому разному назначению.
«Можно говорить об использовании пропагандистами специфики японского языка, представляющего широкое поле для экспериментирования в области семантических ассоциаций в силу распространенности омонимии и возможности расчленения иероглифов на смысловые элементы» [Чугров, 1985, с. 122–123]. Отмечают и такую особенность японских письменных текстов: в них наиболее информативен конец предложения, тогда как в устной речи наиболее информативно начало [Mizutam, 1981, с. 33–34].
Итак, японские письменные тексты строятся по иной модели, чем устные. Иероглифика, трудная для изучения, часто оказывается весьма удобной для лиц, хорошо ее освоивших. По-видимому, это имеет свои причины. Заслуживает внимания точка зрения Е. В. Маевского, который пишет: «Зрительный канал передачи информации, по-видимому, лучше всего работает при условии, что изображение воспринимается сразу, целиком. При необходимости поэлементной развертки восприятие замедляется, канал используется с меньшей эффективностью. Многочисленные исследования показывают, что лишь неопытный читатель последовательно пробегает глазами каждую букву… Быстрое же чтение представляет собой сложный психологический процесс, при котором зрение, как правило, захватывает целый фрагмент страницы, обширное пятно, распространяющееся сразу на несколько строк… Иероглифика более приспособлена к такому «чтению пятнами» в силу самой своей графической природы, и можно предполагать, что при прочих равных условиях чтение иероглифического текста должно занимать меньше времени, чем чтение буквенного (подразумевается, конечно, чтение про себя, а не вслух). С этой точки зрения структура письменного языка, максимально точно имитирующая структуру устного (что бывает при фонетическом письме), отнюдь не оптимальна» [Маевский, 1985, с. 210]. Об удобстве иероглифического письма сравнительно с фонетическим при чтении и одновременном обратном соотношении при написании текста говорят и в Японии [Имаи, 1980, с. 32].
В современной Японии обращают внимание и на то, что недостатки иероглифики становятся менее значимыми из-за распространения в последние годы новых технических средств, так называемых словопроцессоров. В них вводится текст каной или латиницей, набираемый с помощью клавиатуры, который автоматически преобразуется в иероглифическую запись, хранящуюся в машинной памяти. Таким образом опускается трудоемкий процесс написания иероглифов, оказывается достаточным пассивное их знание; в то же время преимущества иероглифики в процессе чтения сохраняются [Ватанабэ, 1983].
Так это или нет, покажет будущее. Однако уже сейчас ясно, что по целому ряду причин нельзя ожидать отмены иероглифики в Японии в обозримом будущем. Вопрос о роли иероглифики в этой стране сложнее, чем представлялось несколько десятилетий назад, хотя и сейчас существует взгляд на иероглифику только как на негативное явление. Видный американский японист Р. Э. Миллер заявляет: «Говорить о совершенстве японского письма — то же, что убеждать больных, что им лучше, чем здоровым» [Miller, 1982, с. 187]. Но можно привести и слова академика И. И. Конрада (ранее также сторонника отказа от иероглифики), сказанные им незадолго до кончины. В письме переводчику его трудов на японский язык он делился впечатлением от японского издания: «Когда я бегло просматривал эти книги, переворачивая одну страницу за другой, у меня возникло ощущение, будто я погружаюсь в мир каких-то понятий. Так как я только перелистывал книгу, а не читал ее, что в ней говорится, я уловить не мог, но о чем говорится мне было совершенно ясно… Какой замечательный способ письма, — подумал я. — В нем не просто соединились, объединились две великих культурных изобретения человечества: письмо идеографическое и фонографическое. Мелькавшие перед моими глазами иероглифы непрерывно давали мне точную информацию — о чем тут написано! А если бы я захотел знать, что именно об этом написано, такую информацию дала бы мне кана! Но так как первое, что хочет знать человек, открывая новую для себя книгу, это — о чем в ней написано, получается, что наличие иероглифов дает на это быстрый и точный ответ при одном взгляде. При европейской системе письма мы должны были бы прочитать весь текст или по крайней мере отдельное слово все полностью. При японской же системе письма первая, начальная информация получается наиболее быстрым и экономичным путем — через одни иероглифы. Нет, не отменяйте у себя иероглифы!.. Форма… которую я вижу в японском издании моей книги, мне кажется чрезвычайно удобной и для нашего времени… Японская система письма в этом пункте уникальна: такое объединение двух прямо противоположных графических принципов произведено только в Японии. Берегите это национальное достояние!» [Конрад, 1972, с. 493–494].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: