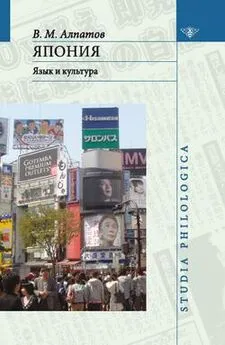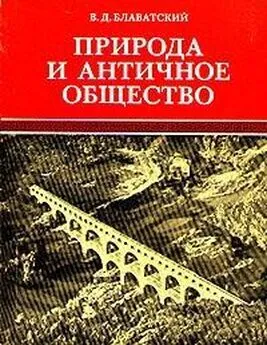Владимир Алпатов - Япония: язык и общество
- Название:Япония: язык и общество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:© Институт востоковедения РАН, © «Муравей»
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-8463-0093-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Алпатов - Япония: язык и общество краткое содержание
Япония: язык и общество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Японская письменность в наши дни
Каково же реальное состояние японской письменности к концу XX в.? Мы говорили о реформе письменности, проведенной вскоре после войны. Сейчас, спустя четыре десятилетия, уже можно довольно определенно говорить о ее результатах, о том, что в ней оказалось жизненным, а что — нет.
Наиболее просто прошло изменение орфографии каны. Старые, исторические написания, в том числе отмененные четыре знака хираганы и катаканы, можно встретить лишь в наиболее традиционных текстах типа стихов на бунго (ХБ. 1984. № 8. С. 69) или как индивидуальные отклонения от нормы, например в написании некоторых имен [22] Так, имя одного из авторов журнала «Гэнто», Тиэко, записано хираганой с использованием отмененного знака (Г 1983 № 6. С 114)
, а также в переиздании довоенных книг (однако в массовых изданиях орфография меняется на современную). Успешно прошла реформа и в упрощении нормативных начертаний ряда иероглифов: старые варианты иероглифов уже забылись и встречаются в тех же случаях, что и старые написания каной.
Более сложной оказалась ситуация в связи с введением иероглифического минимума. В соответствии с реформой слова, записывавшиеся иероглифами вне минимума, должны были писаться каной или же похожими иероглифами минимума, если такие можно подобрать. При этом наряду с хираганой, выступавшей как общая норма, рекомендовалось пользоваться и катаканой: последнюю предполагалось употреблять в названиях животных и растений, наречиях, звукоподражаниях и некоторых других случаях. Таким образом, в результате реформы нарушалось обычное распределение функций между иероглифами и двумя видами каны. Еще больше оно нарушалось из-за того, что из минимума исключались не только многие иероглифы, но и ряд чтений оставленных иероглифов; в идеале ставилась задача сохранить для иероглифа не более одного онного и одного кунного чтения, однако, до конца осуществить не удалось; если же несколько иероглифов применялось для записи одного и того же корня, предлагалось писать этот корень лишь одним способом, в результате чего ряд иероглифов минимума сохранил только онные чтения.
Таковы были правила, введенные более полувека назад. Безусловно, во многом они оказали влияние на функционирование японского языка. Все сейчас признают, что возврат к довоенным письменным привычкам уже невозможен [Neustupny, 1978, с. 271]. Современный японец уже не может свободно читать художественную литературу конца XIX и начала XX века [Умэдзу, 1983, с. 145; Mizutani, 1981, с. 7]. Часто пишут, что некоторые лексемы, особенно канго, после отмены их иероглифического написания вышли из употребления; противники ограничения иероглифики заявляют, что это приводит к нарушению культурной преемственности, обеднению языка; например, Имаи Тадаси упоминает слово сирэцу 'яростный' [Имаи, 1980, с. 28]. Безусловно, общее число употребляемых иероглифов сейчас меньше, чем до войны. По данным Государственного института японского языка, зная 1500 иероглифов (т. е. меньше, чем в минимуме), можно прочесть в среднем 98,4 % газетного текста (К. 1983. № 4. С. 5). Таким образом, успех реформы несомненен. В чем-то реальная ситуация заходит дальше того, что намечено реформой: корни самых часто встречаемых глаголов агару 'поднимать', итадаку 'получать', какару 'висеть', 'попадать' в современном газетном тексте чаще всего пишутся хираганой, хотя их иероглифическое написание предусмотрено реформой (К. 1983. № 9. С. 3–5).
Однако многие нормы оказались слишком жесткими и не были приняты на практике. Количество реально употребительных иероглифов всегда было несколько больше минимума. По данным Государственного института японского языка, в 1966 г. в ведущих газетах Японии было употреблено 3313 иероглифов, примерно в 1,7 раза больше тогдашнего минимума [Имаи, 1980, с. 26]. Общее количество функционирующих иероглифов еще больше за счет книг писателей старшего поколения, и после войны не ограничивавших себя минимумом (много иероглифов, не входящих в минимум, например, у Мацумото Сэйтё, Исикава Тацудзо и др.), а также за счет переизданий довоенной и классической литературы, где оригинальная иероглифика сохраняется в большей степени, чем орфография каны.
Привычка пользоваться иероглифами, не вошедшими в минимум, особенно очевидна при написании имен собственных. Первоначально в его состав не включались иероглифы, употребляемые только в этих словах. Это, однако, часто никак не влияло на употребляемость таких иероглифов; так, в названиях 47 префектур Японии 14 иероглифов не вошло в минимум, но написания этих названий за 30 лет не изменились [Ниситани и другие, 1977, с. 22]. Сохранение иероглифики устойчиво при написании фамилий и особенно личных имен, поскольку при наречении ребенка до сих пор внимание обращается на подбор «хороших» иероглифов. В этих случаях минимум почти не влияет на практику [23] Впрочем, есть и обратные явления При образовании в 1966 г. слиянием городов Иваки, Тайра, Дзёбан, Наково и Угиго нового города Иваки решили его название в отличие от старого писать хираганой; такой случай пока уникален. Во время всеяпонского женского марафона 1985 г. на майках спортсменок 42 названия префектур писались иероглифами и 5 — каной. На плакатах кандидатов в Токийский муниципалитет в 1985 г. обычно их фамилии, кроме самых простых по иероглифике, писались хираганой, а имена — иероглифами с фуриганой.
.
В некоторых сферах продолжает поддерживаться существование редких, архаических иероглифов. Это, например, борьба сумо, сохраняющая средневековый ритуал. Особенно это видно в именах борцов, специально подбираемых по значению и часто передающихся от одного спортсмена к другому в течение нескольких веков; так, в списке имен 53 участников турнира (Асахи-симбун. 1986. 24 марта) присутствуют 26 иероглифов, не входящих в минимум; четыре из них даже отсутствуют в словаре [Фельдман, 1977]; см. такие имена, как Конисики 'Малая Парча' (второй иероглиф вне минимума), Тотиматои 'Каштановый Штандарт' (первый иероглиф в дополнительном списке современного минимума, второй — вне минимума), Сисихо: 'Наследник-феникс' (первый и третий иероглифы вне минимума). Имена борцов сумо, хорошо известные в Японии, никогда не пишут каной и даже не снабжают фуриганой.
Иероглиф, не входящий в минимум, может в связи с изменением ситуации перейти в разряд употребительных. Возведение около г. Цукуба крупного университета, а затем проведение ЭКСПО-85 сделали название Цукуба частым на страницах газет и на телевидении, несмотря на то, что оно записывается двумя иероглифами, первый из которых и сейчас не входит в минимум.
Таким образом, минимум «тоё-кандзи» далеко не соответствовал реальному употреблению иероглифов. Критику вызывала и его произвольность, см. традиционный вопрос противников этого минимума: «Почему иероглиф со значением «собака» вошел в «тоё-кандзи», а иероглиф со значением «кошка» нет?» [Ниситани и другие, 1977, с. 22] (в новый вариант минимума вошли оба иероглифа). Несовершенство минимума послужило причиной его неоднократного пересмотра, главным образом в сторону некоторого увеличения. Изменения производились уже в 50-е годы, а в 1981 г. минимум «тоё-кандзи» постановлением правительства заменен на новый минимум «дзёё-кандзи». В него вошло 1945 иероглифов, на 95 больше, чем в прежний, и еще 166 иероглифов включено в дополнительный список как допустимые для записи собственных имен. Оговорено также, что «дзёё-кандзи» не имеет силы для специальных текстов (научных, технических, искусствоведческих) и для переизданий старой (довоенной) литературы об изменениях минимума в 1990 г. см. ниже раздел «Новые дискуссии о будущем японской письменности».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: